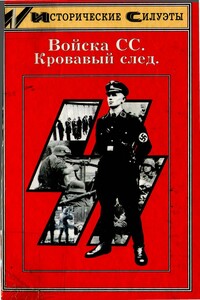История римской литературы Том II | страница 67
Напротив, Фиест, еще только опасающийся козней Атрея, при виде ровного дома и храмов Аргоса, говорит: "Я вижу моих родовых богов (если они существуют)" (si sunt tarnen dii-"Фиест", 407); Язон же, потерявший детей, восклицает вслед улетающей Медее еще более решительно: "Лети через глуби вышнего эфира, как свидетельство того, что нет богов" — Testare nullos esse... deos ("Медея", 1026-1027).
То, что Сенека таким "безбожным" стихом заканчивает всю трагедию "Медея", показывает, что он полностью сознавал противоречие между фатализмом и моралью, что бесполезность и недейственность морального стоического учения не была скрыта от него.
Однако, даже у некоторых главных героев, бесспорно призванных служить воплощением одной страсти и примером ее гибельных последствий, Сенека показывает, хотя и безуспешную, борьбу разума и долга с этой страстью; такими еще не полностью поглощенными страстью действующими лицами являются Медея, Федра и Клитемнестра; они видят преступность своих замыслов и чувств и пытаются остановиться на том пути, который, как они знают, приведет их к катастрофе; но последнее решение их все же преступно, и, как сказано выше, остается неясным, считает ли Сенека его принятым по необходимости, по велению судьбы или по воле человека. Эти колебания перед принятием решения изображены Сенекой в монологе Медеи ("Медея", 893-977), в споре Федры с кормилицей ("Федра", 85-261) и Клитемнестры с Эгисфом ("Агамемнон" 276-309), и надо признать, что, несмотря на применение некоторых типичных приемов риторических "контроверсий", эти части трагедий заключают в себе тонкий психологический анализ.
В других трагедиях эта контроверсия всецело разделена между двумя лицами; в то время как и Федра, и Клитемнестра колеблются сами, а их собеседники только подкрепляют или оспаривают их собственные доводы в пользу того или другого решения, в "Фиесте" и "Троянках" воплощением всепоглощающей страсти представлены Атрей и Пирр-Неоптолем, а представителями разумного начала — советник Атрея (в списке действующих лиц названный "satelles"), настаивающий на том, чтобы Атрей отказался от своего страшного плана мести брату ("Фиест", 176-335), и Агамемнон, долго не соглашающийся на убийство Поликсены, которого будто бы требует тень Ахилла ("Троянки", 103-352); обе контроверсии кончаются, конечно, победой страсти, причем советник, посвященный Атреем в план.мести, обещает молчать и "не столько из страха, сколько из верности" ("Фиест", 335); Агамемнон же после очень резкого спора с Неоптолемом, в котором он не щадит и славы умершего Ахилла, уступает предсказаниям Калханта.