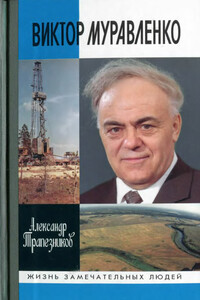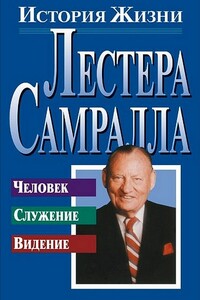О Господи, о Боже мой! | страница 12
Почему-то я гребла и гребла — сколько времени? Не знаю. Долго, но однажды оно кончилось. Светало. Невдалеке стало видно поляну с дубами, палатки, фигуру какого-то старейшины, в неурочный час оказавшегося на берегу. Я причалила лодку, вставшую на дыбы. Он помог вытащить ее и перевернуть. «Я из детского лагеря!» — сказала, дрожа подбородком. «У меня вот тоже спальный мешок промок, торчу здесь…» Смешно сказать, чтo у меня промокло, но промокло еще и письмо, большое, на многих страницах, полученное в тот момент, когда я отправлялась туда читать свою треклятую лекцию. Я успела взглянуть в него, изумиться, но прочесть не успела, пробежала через строчку:
…Вечная моя немота перед тобой… Запиралось слово, мысли деревенели, а какие слова неслись к тебе! Никогда, ничего не мог с собой поделать. Это оттого, ЧТО <…> как один вдох. И твоим именем дышал (и дышу, и всегда буду…). Каждый день, не было иного — разговор внутренний с тобой, сколько же переговорено, хотя и не знала об этом… Но неужели не догадывалась, при твоей-то проницательности?..
О Господи, О Боже мой!.. Не догадывалась при всей своей проницательности… Чуть не пять лет мы трудились вместе… Ну и что делать? Вообще в жизни, с каждым человеком?
Захотелось куда-нибудь поехать. Я подумала, в Пустыньку — женский монастырь под Ригой. Знала понаслышке. За мной увязалась Маша, за ней — дядя Андрюша, который положил на нее глаз, впрочем, не только на нее. Закруглив свой детский лагерь, в котором Маша была за ребенка, а дядя Андрюша, как уже говорила, за молодого (прекрасного) старейшину, они освободились и готовы были, в соответствии со своим возрастом, двинуться навстречу чему угодно. Надо сказать, что дядя Андрюша был не так себе, он был семинарист — явление для нас экзотическое, значительно-таинственное. И если ему случалось украсть конфетку из продуктовой палатки, он ее обязательно покрестит, потом съест.
В лагере оставались машины отец и мать с младшими сестрами. Отец даже был старейшиной нашего рода. Замечательно то, что он наставлял нас не бить комаров, а отгонять их ладонью (комаров было о-го-го!). Потому ли, что был он биолог — любил все живое, или просто незлобивый человек? Не учитывал он, что, шлепнув комара, человек получает такое удовлетворение, что вся злоба его уходит на это дело, и он на некоторое время бывает от нее свободен.
Мама машина была в другом роду. Человек активный в семье и в жизни, она вышла из партии и окрестилась. Меня она ревновала. Сказала об этом на исповедальном собрании, но не сказала — к кому.