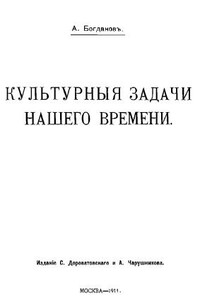Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. От романтизма до наших дней | страница 27
1.3.3. Третий принцип фихтеанского идеализма: взаимное ограничение и противопоставление Я ограниченного и ограниченного не-Я
Третий принцип представляет собой момент «синтеза». Оппозиция Я и не-Я происходит внутри Я, как уже было показано. Эта оппозиция не такова, что Я элиминирует не-Я, и наоборот. Одно ограничивает другое, и наоборот. Очевидно, что продуцирование не-Я не может быть не чем иным, как детерминацией Я. Следовательно, определенное не-Я влечет по необходимости определенное Я. Фихте употребляет термин «делимое», и формула теперь такова: «Я распадается на делимое Я и делимое не-Я».
Фихте отождествляет этот третий момент с кантианским «априорным синтезом» и указывает на первые два момента как на условия, делающие его возможным. Теперь Фихте убежден, что может дедуцировать категории из трех означенных принципов. Он получает, например, три категории качества: 1) утверждение; 2) отрицание; 3) ограничение. Аналогичным способом он выводит и остальные категории.
Я и не-Я и их взаимное ограничение объясняют активность как познавательную, так и моральную. Познавательная активность основана на детерминации Я со стороны не-Я. Практическая активность основана на ограничении не-Я со стороны Я. Поскольку оба момента размещаются внутри бесконечного Я, то, стало быть, налицо динамика прогрессивного преодоления, где господствует предел.
1.3.4. Идеалистическое объяснение познавательной деятельности
В опыте и познании мы имеем дело с объектами, отличными от нас и воздействующими на нас. Как объяснить тот факт, что субъект отличает от себя объект, что он чувствует его воздействие?
Фихте пытается решить эту проблему, используя кантианскую «силу воображения», изобретательно преобразуя ее. У Канта продуктивное воображение априорно определяло чистую форму времени, предоставляя схемы для категорий. У Фихте же сила воображения творит объекты бессознательно, стало быть, это бесконечная активность Я, которое, непрестанно ограничивая себя, производит то, что становится материей нашего познания. Именно потому что речь идет о бессознательном творении, продукт выступает «иным», отличным от нас.
Продуктивное воображение дает как бы сырой материал, который сознание, обрабатывая его поэтапно, усваивает через ощущение, чувственное созерцание, рассудок и суждение. Если здравый смысл убеждает в реальности внешнего мира — что вещи существуют и без нашего вмешательства, — то в фихтеанской оптике — в обратном порядке: все исходит от Я. Там мы приходим к «чистому самосознанию», необходимому условию того пути, на котором рождается сознание, причем сознание всегда по поводу чего-то отличного от него, что непрестанно полагает «инаковость». Тем более очевидно, что чистое самосознание — предел, к которому можно приближаться, но достичь — по структурным основаниям — нельзя. Ведь упразднить предел означало бы покончить с сознанием.