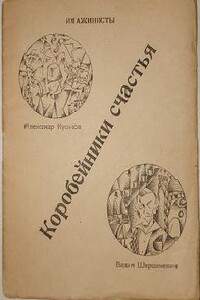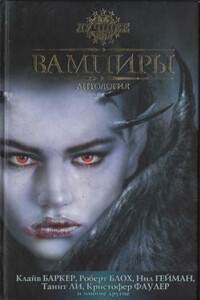Листы имажиниста (сборник) | страница 7
С начала 10-х годов у В. Шершеневича складываются дружеские отношения со сводным братом известного философа С. Франка, талантливым художником, поэтом и филологом-любителем Львом Васильевичем Заком[28], вскоре эмигрировавшим. В 1913 году в недрах созданного ими сообща крохотного издательства «Мезонин поэзии», в приватных беседах Льва Зака и Вадима Шершеневича и в их «открытых письмах» друг другу (см. «Перчатка кубо-футуристам» М. Россиянского и «Открытое письмо М. М. Россиянскому» Шершеневича) вызревает, еще как бы внутриутробно, теория отечественного имажинизма, к которой В. Шершеневич обратится несколько лет спустя.
В это же время Шершеневич переводит и активно пропагандирует в России творчество вождя итальянских будетлян Ф. Т. Маринетти[29], а во время пребывания последнего в Москве состоит при нем в качестве гида-переводчика, пишет статьи о футуризме[30].
В период непродолжительного сближения «Гилей» (группа кубо-футуристов: братья Бурлюки, Маяковский, Крученых, Лившиц, Хлебников) с эго-футуристами у Шершеневича завязываются личные отношения с Маяковским. Заметим, что поэтика «раннего» (до 1917) Маяковского решительным образом повлияла на практику «левого крыла» (Шершеневич, Мариенгоф) имажинизма, что бы ни говорил об этом сам имажинизм в лице своих представителей. Впрочем, ничего зазорного в этом влиянии нет. И говорим о нем не в упрек, но скорей в похвалу. Вместе с тем, сопрягая эти имена (Маяковский и Шершеневич), корректней было бы, наверное, говорить и о каком-то, конечно «неравнообъемном», но – взаимовлиянии.
В это время (начало 1914) Вадим Шершеневич, очевидно (сам он это отрицал), редактирует второе издание футуристического сборника «Дохлая луна», что приводит его к острому конфликту с Б. Лившицем и осложняет дальнейшие отношения с кубо-футуристами. Добавим, что конфликт этот освещен Лившицем в книге «Полутораглазый стрелец», на наш взгляд, не слишком объективно (см. прим. к с. 102).
Можно было бы вменить Вадиму Шершеневичу некое «шляхетски-ветреное» непостоянство. Действительно, за 1913–1914 гг. он побывал в стане символистов, слегка пококетничал с акмеизмом и затем – в качестве эго-футуриста – пошел на альянс с «Гилеей». Но не будем столь строги к двадцатилетнему … юноше? молодому человеку? – талантливому, самолюбивому, самоуверенному, но себя явно еще не нашедшему.