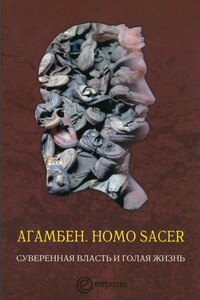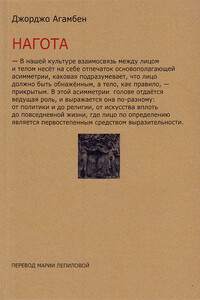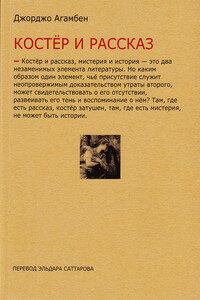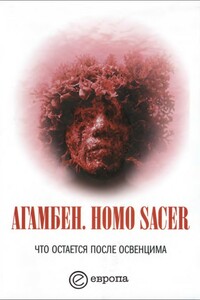Автопортрет в кабинете | страница 21
Вейль: только люди, достигшие крайней степени социальной деградации, могут говорить правду, все остальные лгут.
Можно говорить правду только при условии, что к ней никто не прислушивается (правда – это то, чему ты не можешь не верить, если прислушиваешься к ней). Правда, произнесенная устами авторитетного человека, который уже внушил уверенность своим слушателям, теряет часть своей правды. Поэтому, когда мы пишем, мы пытаемся добиться анонимности, стать неизвестными даже для самих себя. Только ту правду, что теряется, можно неожиданно, неуклюже подобрать. Отсюда проистекает тщетность всех учреждений, которым была поручена задача транслировать правду.
Хосе Бергамин. Фотография Джорджо Агамбена
На мой взгляд, именно поэтому я никогда не мог и не хотел иметь учеников – только друзей, даже когда разница в возрасте была настолько большой, что осложняла дружбу. И никто из тех, кого я мог считать своими учителями, намеренно никогда не выступал в этой роли. Напротив, все – Пепе[65], Джованни, даже Хайдеггер в ходе семинаров в Ле Торе – противились тому, чтобы выступать в роли учителей, и всякий раз находили способ, чтобы опровергнуть этот церемониал.
Страница из «Écrits de Londres et dernières lettres» Симоны Вейль с пометкой Хосе Бергамина
За стеклом справа в кабинете в переулке дель Джильо видна фотография Хосе Бергамина, который, как и Джованни, несомненно, оставил свой след в моей молодости. В определенном смысле Пепе был противоположностью Симоны Вейль. Каждая встреча с ним проходила под знаком радости, причем радость всякий раз была такой насыщенной и разной, что мы возвращались домой, не осмеливаясь в нее верить, преображенные и легкие, как если бы подобная радость не могла существовать и ее нельзя было вынести. И тем не менее в моем – или его – экземпляре «Écrits de Londres» Пепе отметил различные фрагменты, где появляется слово «malheur», которое ему, изгнаннику, подвергшемуся политическим преследованиям, должно было быть хорошо знакомо. Но фрагмент о радости отмечен его неповторимой эмблемой в форме птицы.
Ему я обязан отвращением к любой трагической позе и склонностью к комедии – хотя позднее я понял, что философия находится за рамками трагедии или комедии и что, как говорит Сократ в конце «Пира», тот, кто умеет сочинять трагедии, должен уметь писать и комедии. И благодаря Пепе я со временем понял, что Бог – это не монополия священников и что его, как и спасение, я могу искать только