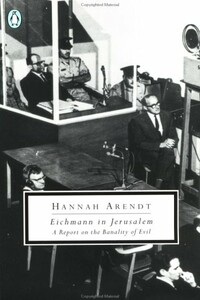. Это соединение есть полярная противоположность всякой подлинной кооперации, опирающейся как раз на различие кооперирующихся; объединение при разделении труда указывает в сторону родового единства, когда любой экземпляр равен любому другому вплоть до взаимозаменимости. (Формирование трудовых коллективов, где работники социально организованы по принципу всем им в равной мере присущей и потому поддающейся делению рабочей силы, составляет острейший контраст союзам ремесленников, начиная от цехов и гильдий и вплоть до известных типов современных профсоюзов, группирующихся на основе известных умений и специализаций, которые как раз и отличают их от других ремесленников.) И поскольку ни один из поделенных квантов труда сам по себе и от себя, вне зависимости от их суммарного множества, не целесообразен и с достижением своего частного результата не может прийти к завершенности, «естественное» завершение трудового процесса при разделении труда точно такое же как и при неразделенном труде: деятельность завершается либо когда воспроизводство необходимых средств к жизни закончено или когда рабочая сила истощилась. В обоих случаях однако это окончание не окончательно; средства к жизни надо опять воспроизводить снова, а истощение составляет лишь часть индивидуального жизненного процесса, не коллективной жизни рода, который в случае разделения труда является в качестве коллективной рабочей силы собственно субъектом трудового процесса. Коллективная рабочая сила неистощима и соответствует бессмертию рода, чей жизненный процесс в целом тоже не прерывается рождением и смертью отдельных экземпляров.
Намного больше проблем чем возможные ограничения трудовых ресурсов создает поэтому лимитирование, накладываемое на трудовой процесс со стороны ресурсов потребления, поскольку они остаются привязаны к индивиду также и там, где на место индивидуальной выступает коллективная рабочая сила. Безграничным может в принципе быть только растущее накопление, да и то лишь при условии «обобществившегося человечества», которое освобождает свой производственный процесс от ограничений индивидуальной частной собственности и преодолело ограниченность индивидуального присвоения тем, что всё богатство, состоявшее в недвижимой собственности, в обладании «нажитыми» и «накопленными» вещами, превращено в деньги или в потребительские товары, которые через их расходование вновь вливаются в экономику и ведут к дальнейшему нарастанию процесса производства. В подобном обществе мы уже и живем, коль скоро в среднем достаток оценивается теперь не по тому чем человек владеет, а по тому что он получает и что может потратить, или потребить, т. е. по тем двум формам, в которых происходит обмен веществ человеческого тела. Проблема этого современного общества поэтому в том, каким образом можно привести индивидуально ограниченные ресурсы потребления в согласие с принципиально безграничными ресурсами труда.