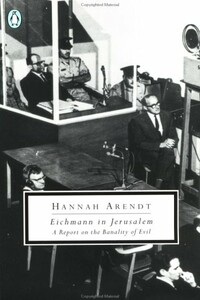Vita Activa, или О деятельной жизни | страница 48
Так что политическое значение имели не недра этой области, чья тайна публичности не касается, но лишь ее внешний образ, а именно то, что должно быть учреждено вовне для сбережения интимного. В свете публичного приватное выступает как ограниченное и огражденное и обязанность публичной, общей сферы в том, чтобы сохранить эти ограды и границы, отделяющие собственность и собственнейшее гражданина от собственности соседа, обеспечивая ему обособленность. То, что мы сегодня именуем законом, означало по меньшей мере у греков исходно нечто вроде границы[88], которая в более ранние времена была зримым граничным пространством, родом ничейной земли[89], замыкавшей и ограждавшей всякого, кто вообще был кем-то. Правда, закон полиса ушел намного дальше этих прадревних представлений, но даже и ему еще явственно присуще какое-то пространственное значение. Ибо закон греческого города-государства не был ни содержанием, ни результатом политического акта (что политическая деятельность в первую очередь есть законодательство, пошло от римлян и стало затем существенно новоевропейским представлением, нашедшим себе самое весомое выражение в политической философии Канта); не представлял он собой и перечня запретов в смысле современных законов, которые все покоятся еще на «ты не должен» десяти заповедей. Греческий закон был действительно «стеной закона» и создавал как таковой пространство полиса; без этой стены мог стоять город в смысле скопления домов для совместной жизни людей (ἄστυ), но только не город-государство как политическая общность