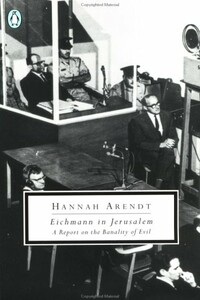Vita Activa, или О деятельной жизни | страница 39
Поскольку наше чувство реальности полностью зависит от того, что имеют место явления и тем самым открытое публичное пространство, куда что-то может выступить из тьмы потаенного и утаиваемого, то и сама светотень, скудно озаряющая нашу интимную приватную жизнь, обязана своею светоносной силой ослепительно резкому свету, излучаемому публичностью. Но с другой стороны существует большое число вещей, которые не выдерживают блеска, каким постоянное присутствие других людей заливает публичное пространство, терпимое лишь к тому, что оно признаёт релевантным, достойным всеобщего разглядывания и выслушивания, так что всё иррелевантное автоматически становится приватным делом. Это конечно не обязательно означает, что частные обстоятельства как таковые иррелевантны; мы увидим, наоборот, что есть весьма весомые вещи, которые вообще могут иметь место и развернуться только в приватном. Любовь к примеру, в отличие от дружбы, решительно не может пережить публичного выставления напоказ. («Коль сердце хочешь подарить, отдай его мне втайне»; «Never seek to tell thy love / Love that never told can be».) Ввиду заложенной в ней безмирности все попытки изменить или спасти мир любовью ощущаются нами как безнадежно ошибочные.
При этом то, что публичность рассматривает как иррелевантное, может стать настолько чарующим и волшебно манящим, что целый народ обратится к нему, найдет в нём форму своей жизни без того чтобы оно утратило свой сущностно приватный характер. Современная зачарованность «мелочами», которые ускользают «от упрощающего привычного взгляда», «то загадочное, бессловесное, безграничное очарование», которым дышит «никем не замечаемая заброшенность или прислоненность» – «садовая лейка, забытая в поле борона, собака на солнышке, убогий церковный двор, инвалид, бедная крестьянская хижина», – что всё это может стать «сосудом откровения»[69], мы знаем если не сами по себе, то из европейской поэзии начала двадцатого века; но свое классическое осуществление как форма жизни это очарование нашло себе пожалуй только в том, что во Франции называют «lе petit bonheur». Своеобразно чарующая нежность французской повседневности, одновременно милой и надежно-простонародной, возникла, когда распалась некогда великая и славная публичность этой нации и падение вынудило народ уйти в приватность, где он и показал свое мастерское умение в искусстве быть счастливым в четырех стенах, между постелью и гардеробом, столом и креслом, в окружении собаки, кошки и горшка с цветами. Царящая в этом тесном круге мягкая тщательность и предупредительная забота в мире, стремительная индустриализация которого, раздвигая место для нового производства, неумолимо разрушает еще вчера привычные вещи, вызывают такое впечатление, словно здесь скрывается бегством последняя, чисто человеческая способность радоваться миру вещей. Но это расширение приватного, это очарование, каким целый народ окружил свою повседневность, не создает публичного пространства, а наоборот означает лишь, что открытая публичность почти полностью исчезла из жизни народа, так что во всём правят прелесть и очарование, а не величие или значительность. Ибо чарующей публичность, которой пристало величие, быть никогда не может, и именно потому что ни для чего невесомого места не имеет.