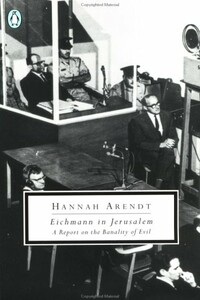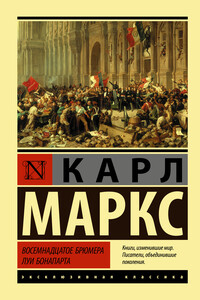Vita Activa, или О деятельной жизни | страница 37
То, что мы здесь охарактеризовали как неестественное разрастание природного, обычно описывают как постоянно ускоряющееся возрастание производительности труда. Это возрастание однако началось не с изобретения машин, но с организации труда, а именно с разделения труда, как известно предшествовавшего промышленной революции; да и механизация трудового процесса, последовавшая за разделением труда и еще больше повысившая производительность труда, в конечном счете всё еще покоится на принципе организации. Этот принцип однако возник явно не в приватной, а в публичной сфере; разделение труда и последовавшее за ним повышение производительности труда были направлением развития, которое труд мог принять только в условиях публичной сферы и на которое его ничто не могло бы толкнуть в приватности семейного хозяйствования[62]. Совершенно очевидно, что ни в какой другой области наше Новое время не пошло так далеко, как в революционном преобразовании труда, а именно до той точки, когда само значение слова – исконно включавшее «беду и муку», усилие и боль, даже телесное увечье, всё, на что человек мог решиться только под гнетом нищеты и несчастья, – для нас утратило свой смысл[63]. Поскольку жестокая необходимость поддержания жизни понуждала к труду, совершенство было последнее, чего можно было от него ожидать. Совершенство и тягостное, мучительное усилие взаимно исключали друг друга. «Если с трудом, кто смог бы сделать хорошо?» (εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοι)[64].
Совершенство, греческое ἀρετή, римское virtus всегда находили себе место в области публичного, где можно было превзойти других и от них отличиться. Всё совершаемое публично может поэтому достичь совершенства, никогда не присущего никакой деятельности внутри приватного: превосходство характеризуется тем, что другие тут же налицо, и их присутствие требует специально для этой цели конституированного пространства, наряду с некой пространственно обставленной, создающей дистанцию формальностью; семейственно свойское окружение людей, принадлежащих к нашим, не только никогда не смогло бы убедительно подтвердить превосходство, но оказалось бы прямо-таки подорвано стремлением выделиться из всех[65]. Хотя в социальности превосходство сильно обезличивается тем, что она приписывает его прогрессу человеческого рода, а уже не достижениям одиночек, всё-таки даже и здесь не удалось целиком и полностью разрушить связь между публичным достижением и превосходством. Этим можно объяснить то, что труд, осуществляющийся в Новое время в публичной сфере, таким исключительным образом усовершенствовался, тогда как наши способности поступка и слова, в нашу эпоху вытесненные в сферу приватного и интимного, так явственно проиграли в качестве. На этот сдвиг, а именно на примечательный раскол между тем, чего мы достигаем в работе и создании, и тем, как потом мы в этом сработанном и созданном мире движемся, часто указывалось; тут обычно говорят о якобы отставании нашего общего человеческого развития от завоеваний естественной науки и техники, надеясь, что общественные науки сумеют в конце концов создать социальную технику – нечто вроде social engineering, – которая будет так же манипулировать обществом, ставя его под научный контроль, как наукотехника – природой. Совершенно отвлекаясь от упреков, достаточно часто выдвигавшихся против этой «надежды» чтобы здесь их можно было уже не упоминать, вся эта критика современной социальной ситуации замахивается только на посильное изменение образов человеческого поведения и лежащей в их основе «психологии», но не на изменение мира, в котором мы люди живем и движемся. И как раз эта исключительно психологическая интерпретация человеческой экзистенции, на которой покоятся общественные науки и для которой наличие или неналичие публичного пространства так же иррелевантно, как всякая другая мирская реальность, оказывается проблематичной перед лицом того факта, что никакое выдающееся достижение невозможно, если сам мир не предоставит ему места. Никакие мыслимые психологические свойства, которые можно было бы воспитать или внедрить, ни дарования, ни таланты не могут заменить то, что конституирует собою публичную сферу, делая ее пространством мира, где люди стремятся к отличию и совершенное может найти себе достойное его место.