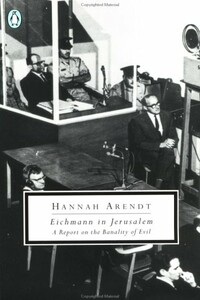Vita Activa, или О деятельной жизни | страница 152
Причина, почему жизненное напряжение, как бы размах данного вместе с рождением начала, может продержаться до смерти, заключается в том что значение всякой истории вполне раскрывается лишь тогда, когда она пришла к своему концу, так что всё время нашей жизни мы ввязаны в историю с неведомым исходом. В противоположность всем процессам изготовления, ход которых предначертан представлением или моделью, обязательно находящейся в распоряжении изготовителя до начала его работы, процессы действия – какого бы они ни были содержания и характера, развертываются ли они в частном или публичном пространстве, массы или единицы в нём участвуют, – проясняются лишь тогда, когда само действие придет к своему завершению, когда все участники уйдут из жизни. Не существует событий, однозначно указывавших бы на будущее, каким бы ярким светом они ни озаряли прошлое. Поэтому полный смысл конкретно происходившего известен не тем, кто был вовлечен в действие и прямо задет им, а тем, кто в конце всего обозревает историю и рассказывает ее. Замечание об историке как о пророке, глядящем назад, подкреплено тем немаловажным фактом, что историограф действительно всё знает лучше тех, кто помог ему со своими историями. В руках историка составленные самими деятелями сообщения и мемуары становятся источниками, материалом, который должен быть сначала проверен на свою релевантность и правдоподобие в целом, причем даже в тех редких случаях, когда отчет о намерениях, целях и мотивах был дан с полной правдивостью, ибо настоящее значение этих намерений, целей и мотивов впервые обнаруживается, когда общая ткань, в которую они вплетались, более или менее известна. Поэтому составленные самими деятелями информативные отчеты вряд ли могут тягаться по значимой полноте с историей, раскрывающейся обращенному назад взору историографа и повествователя. То, что дает рассказанная история, остается для деятеля как такового уже потому скрытым, что мотивы его поступков никоим образом не вписывались в то значение, какое сложилось в окончательно получившейся из них истории. Так что хотя истории, заслуживающие рассказа, оказываются единственными однозначно осязаемыми результатами человеческого поступка, но не деятель опознаёт и рассказывает историю, чьей причиной он стал, как историю, а рассказчик, в действии совершенно не участвовавший.
§ 27 Греческий выход из апорий поступка
Непредвидимость последствий действия всего теснее связана с тем, что всякое действие и говорение невольно втягивает в игру действующего и говорящего, причем однако тот, кто таким образом выставляется, никогда не в состоянии узнать или вычислить, кого он собственно в лице самого себя выводит на сцену. На это, похоже, указывает древнее изречение, что никто до своей смерти не может быть назван счастливым, εὐδαίμων, хотя нам и нелегко расслышать исходный смысл слов, которые уже у римлян окаменели в поговорку nemo ante mortem beatus dici potest, а потом в клише. (Надо думать, эта римская поговорка внесла свой вклад в то, что католическая церковь поднимала своих святых до статуса beatitudo лишь после их смерти.) Наша растерянность начинается со слова εὐδαίμων, не поддающегося передаче ни через латинское beatitudo, ни через какое- либо из наших слов в смысле блаженства или благополучия. В нём звучит что-то от благодати, но без каких-либо религиозных обертонов, и оно означает буквально доброе расположение δαίμων’а, который всякий раз проводит людей через жизнь и составляет их однозначную идентичность для других, но ими самими остается как раз не замечен