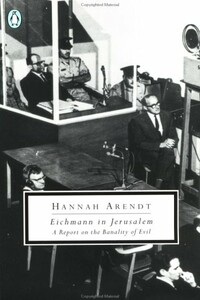Vita Activa, или О деятельной жизни | страница 133
Единственное, что доказывают компьютеры, гигантски разросшиеся счетные машины, так это неправоту семнадцатого века, полагавшего вместе с Гоббсом, что рассудок, а именно способность к умозаключению – reckoning with consequences, – есть высшая и человечнейшая из всех человеческих способностей, и правоту девятнадцатого века с его философией труда и жизни – с Марксом, Бергсоном и Ницше, – принимавшего рассудок просто за функцию жизненного процесса, а саму жизнь соответственно за нечто «более высокое» чем рассудок. Вплоть до сего дня очень стойкая, главная ошибка этого новоевропейского периода была конечно в его вере, будто мышление и познание имеют свой подлинный источник в этих психических функциях снабженного интеллектом живого существа. Совершенно очевидно, что эти укорененные в мозгу интеллектуальные процессы настолько же безмирны, т. е. настолько же не в состоянии воздвигнуть мир, как другие физические процессы, которыми жизнь приневоливает человека, принудительные процессы работы и потребления.
Самое кричащее внутреннее противоречие классической политической экономии, нередко привлекавшее к себе внимание, состоит в том что сами теоретики, так гордившиеся своим последовательно утилитаристским мировоззрением, в душе таили отчетливое презрение к плоской полезности, проявлявшееся в том, что на производство чисто потребительских благ, т. е. самого полезного из всего что есть, они всегда смотрели сверху вниз как на нечто второразрядное. Не полезность, а устойчивость и долговечность были масштабами, прилагавшимися ими к действительности в целях определения производительности. И это означает лишь, что они всё еще в смысле homo faber’a ориентировались на мир с его вещественностью, а не относили, как animal laborans, всякую деятельность к жизни и к ее нуждам. Правда, устойчивость повседневных предметов употребления относительна, она лишь слабый отсвет той устойчивости, которая дает веками существовать явственнейшим носителям мира, художественным произведениям; однако и эта относительная устойчивость всякой вещи как таковой есть тоже производное той всё переживающей долговечности, которая для Платона была чем-то божественным, ибо граничащим с нетленностью. Во всяком случае именно это свойство определяет облик вещи, ее формы проявления в мире, будучи поэтому предпосылкой того что она может являться нам прекрасной или безобразной. При этом конечно собственно облик для повседневно употребляемых предметов играет несравненно меньшую роль чем для изъятых из употребления художественных вещей, и попытки современного художественного промысла изготовлять предметы употребления так, словно они художественные вещи, имеют порядком безвкусицы на совести. Однако зерно истины, скрывающееся за этими усилиями, заключено в том неоспоримом факте, что всё, существующее достаточно долго чтобы быть воспринятым как форма и образ, просто не может не выставлять себя на суд, затрагивающий не только его функцию, но также и его облик; и пока мы не лишаем себя насильственно зрения, соотв. не лишаем себя насильственно ориентиров, значимых для зримого, мы не можем не судить обо всём вещественном также и по тому, красиво оно, безобразно или где-то посредине.