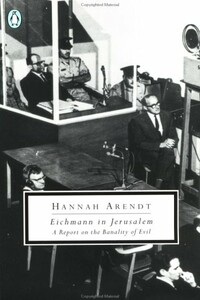. Для такого разделения труда машины вторичны, оно может сложиться и без них, больше того, при введении teamwork в немеханизируемые области «умственного труда», столь характерном для современного академического исследования, оказалось, что взаимодействие участников тут пожалуй даже еще теснее чем при механизации труда или при других организованных телесным ритмом видах физической деятельности. В идеале при оценке результатов исследовательской работы, проведенной в форме teamwork, вообще уже нельзя установить, что собственно сделал каждый отдельный участник; автор полученного результата даже и не тот, кто разделил труд и потом лично следил за ходом работы от ее начала до конечного итога. Вплоть до того что и минимум изоляции или самостоятельности, какой достается на долю работника, в одиночку и своими силами решающего часть задачи, отведенную ему системой разделения труда, внутри группы (team) снят, и если ее члены соотносятся между собой как части целого, то это части какого-то настолько нерасчлененного и аморфного целого, как бы многоголового единства, что уже нельзя даже метафорически говорить о голове и членах. Ясно, что эта форма совместности, характерная для умственного
труда в самом буквальном смысле слова, никогда не может сложиться в процессе создания. Однако и специфично политические формы совместности, когда люди советуются между собой чтобы потом действовать в согласии друг с другом, имеют место в принципе вне сферы создающей деятельности. Лишь когда деятельность мастера прекращается и изготовленный предмет налицо, его создатель выходит из своей изоляции.
Рынок товаров – исторически позднейшая и последняя публичная сфера, где изготовители еще сходились вместе в качестве изготовителей чтобы выставить свои изделия как товары для обозрения. В определяемом преимущественно торговлей, т. е. коммерческом обществе, характерном для начальных стадий мануфактуры в начале Нового времени, можно еще явственно заметить следы более старой, внутренне присущей изготовлению тенденции предъявить сделанное и открыто показать, что умеет мастер. Но и здесь уже эти тенденции намного опережает столь выпукло обрисованное Адамом Смитом стремление к обмену, специфический коммерческий товарный голод, когда определяет не гордость изготовителя своей продукцией и своей ловкостью, а конкуренция с другими, успех в конкурентной борьбе, которая в свою очередь очень мало зависит от имманентной ценности, внутренне присущей вещи, и для которой должны быть мобилизованы совсем другие умения чем способность что-то создать и оценить качество созданного. Однако и этот инстинкт конкуренции в коммерциализованном обществе, подобно старинной гордости ремесленника в обществе настоящих производителей, рано или поздно исчезает с возвышением труда до человеческой деятельности высшего ранга и возникновением трудового социума, когда масштабы общества определяются уже лишь суетным и праздным выставлением для обозрения того, что может быть предложено для потребления.