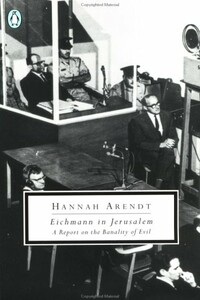Vita Activa, или О деятельной жизни | страница 110
Решающее различие между орудиями труда и машинами всего лучше осмыслить, вдумавшись в нескончаемые дискуссии о том, должен ли человек приспособиться к машинам или наоборот гуманнее было бы приспособить машины к «природе» человека. Главную причину неисправимой бесплодности подобных дискуссий мы уже упомянули в первой главе: поскольку человек есть обусловленное существо в том смысле что всякая вещь, находит ли он ее или сам изготовляет, сразу становится для него условием его существования, то он естественно и к машинному окружению приспособился, позволил ему обусловливать себя в тот самый момент, в какой их изобрел. Машины сегодня не менее безусловное условие нашего существования, чем инструменты и орудия для всех прежних эпох. Интерес этой дискуссии заключается не столько в головоломке, вокруг которой она вращается, сколько в том, что подобный вопрос вообще мог быть поднят. В самом деле, ни один человек никогда не ломал себе голову над тем, должен ли человек подобающим образом приспособиться к применяемому им топору или наоборот надо топор приспособить к его природе, сделав его более гуманным. Это звучало бы точно так же смехотворно, как предложение привести человека и его руки в подобающее соотношение друг с другом. С машинами по-настоящему случай совсем другой. В отличие от орудия, которое в каждый отдельный момент остается подчинено изготовляющему движению руки и служит ей как средство, машина требует от рабочего чтобы он ее обслуживал и подлаживал ритм своего тела к ее механическому движению. Это разумеется никоим образом не значит, как зачастую думают, будто человек как таковой механизируется или вынужден опуститься до рабства у машин; но безусловно верно то, что пока длится работа за станком, механический процесс заступает на место телесного ритма, и что человек неким образом должен был уже привыкнуть к этому ритму машин, когда замыслил, хотя бы лишь в уме, такую вещь как машины. Самый утонченный инструмент остается слугой своего хозяина, не будучи в состоянии водить его рукой или ее заменить. Но даже самая примитивная машина руководит работой тела, пока в конце концов полностью не вытесняет ее.
Историк слишком хорошо знает, что смысл исторических процессов большей частью обнаруживается лишь тогда, когда они достигают своего завершения, но никогда не поддается распознанию прежде чем событие достигнет наибольшего размаха. Так же и в нашем случае действительное значение техники, т. е. вытеснения инструментов и орудий машинами, прорисовывается, похоже, лишь в том, что мы предвосхищающе предвидим в качестве непосредственно предстоящей нам итоговой стадии всего этого развития, а именно в автоматике. Если от этой ожидаемой окончательной стадии бросить взгляд вспять на развитие новоевропейской техники, то оно окажется состоящим пожалуй из таких трех ступеней. На первой стадии, которая под знаком паровой машины непосредственно ввела Европу в промышленную революцию, человек с помощью машины подражал процессам природы или же непосредственно пользовался для этой цели природными энергиями; в обоих случаях еще не было принципиального отличия от водяных и ветряных мельниц, с незапамятных времен улавливавших для человека определенные силы природы, ставя их на службу ему. Новостью была не паровая машина, а открытие и эксплуатация каменноугольных пластов земли, благодаря которым был получен горючий материал, позволивший применить принцип паровой машины