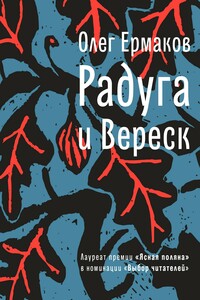Лич из Пограничья | страница 38
— Мне однажды приснилось, что я ем хлеб.
— Приснилось? Разве мертвые видят сны?
— Хочешь знать, зачем мне королевские райсы? — вопрос прозвучал в ответ на вопрос. — После них я вижу сны о своем прошлом. В предпоследнем мне привиделось, будто я ем хлеб.
— Понятно. А что было в последнем?
— В последнем… Нечто неопределенное. Эти сны не всегда разборчивы.
Да уж. Последний сон было действительно сложно истолковать. Моа виделась чужая — совершенно чужая! — земля. Лес внизу. Большие папоротники, такие же большие хвощи и какие-то причудливые деревья похожие на зеленые петушиные хвосты, приделанные к прямым стволам, чешуйчатым, как змеиные тела. И он шел по этому лесу… или плыл над ним. Нет, скорее все-таки шел, отчетливо ощущая, как катаются под кожей шары мышц, и шаги, подобные грому, отдаются эхом в далеких горах. А над лесом тянулся запах. Он был почти осязаем, почти видим. Пахло смертью, недавней, свежей, манящей. От чарующего аромата все внутри начинало трепетать, и рот набирался слюной. Ноги же сами несли вперед. Быстрее… Быстрее! И вот он — источник запаха — огромная гора еще теплой плоти…
Моа проснулся тогда в странном возбуждении с единственным желанием — срочно кого-то убить и сожрать. Первые несколько секунд эта мысль полностью владела им, но вскоре разум справился и загнал хищные желания в самые дальние глубины сознания. Следом пришло неприятное ощущение, что он чуть не сорвался, не опустился до уровня самого пустоголового, тупого, движимого инстинктами мертвяка.
Этот гнусный сон явно был не о прошлом Моа.
Или все же о прошлом? Но что за события тогда были в нем зашифрованы?
— В нем ты тоже что-то ел? — улыбнувшись, спросила Има.
— Да, — без утайки ответил лич.
То, что он сказал, было чистейшей правдой.
К полудню они были рядом с Подбережкой.
Свет заливал все вокруг, колыхалась под ветром трава, облака текли по небу белыми кружевными лентами. Близился день Солнцестояния, и главное небесное светило все дольше задерживалось в зените. Теплое марево погожего дня нарушало лишь одно — монотонное ворчание, доносящееся из-за поворота дороги. Звук, похожий на рык собаки, то и дело сменялся неразборчивым подобием человеческой речи.
Картина, явившая вскоре взорам путников, была удручающей. На лесной прогалине — небольшой, поросшей низенькой травкой и цветами, поляне — стоял огромный валун, высотой больше человеческого роста. На его вершине сидел сморщенный старик в белой одежде. Его плешивую, покрытую пигментными пятнами, голову венчала высокая шапка священника. В руках незнакомец держал доску с нарисованными на ней женщиной и младенцем. Персонажи картины застыли в весьма странных позах — женщина поднимала младенца на вытянутых руках, воздев над головой с таким видом, будто хотела с размаху швырнуть его о землю…