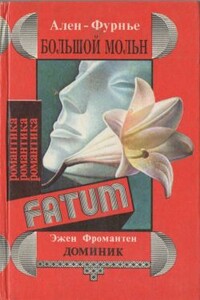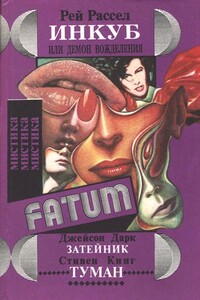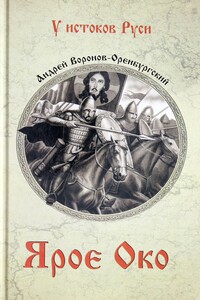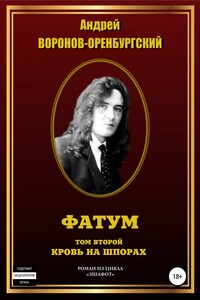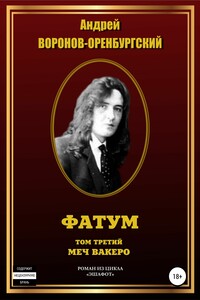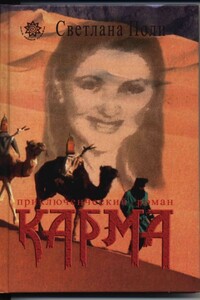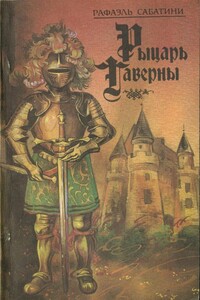Паруса судьбы | страница 120
Кукушкин печально кивал и ломал пальцы; старомодный парик сидел на нем набекрень. Оба помолчали, стоя у крюйт-камеры84, где хранился пороховой запас «Северного Орла». Утерев льняным платком от испарины шею, фельдшер посоветовал:
− По моему разумению, сон и покой − лучшее лекарство ему. Какое тут плавание? Ты не прознал, часом, у капитана имеются соображения насчет отплытия?
Палыч сурово погасил его надежду:
− Ну, ждите! Скажет его благородие-с. Плохо вы его, видно, изучили-с, Петра Карлыч. С карактером он у нас, у-у-у, в батюшку своего, то-то!
Неказистый Кукушкин переступил с ноги на ногу, будто робея, простонал голосом слабым, словно бы с трещинкой; затем поежился и еще пуще сник и без того покатыми плечами.
Вздыхая и охая, они принялись подниматься на палубу.
Но ошибался фельдшер. Не боль ушиба терзала Преображенского, не ожоги. Страх смерти терзал когтями его существо, клевал в самое сердце. Он шел к нему шаг за шагом и глухо постучал в душу ледяным кулаком. И с каждым новым стуком оставался в Андрее дольше и осязаемее, кроился в очертания безысходности.
Продольные вскачки «Северного Орла», подплясывающего на волне, мягко баюкали, как ласковые руки матери. Но капитану это тишайшее трясье казалось крадущимся злом, обложившим его со всех сторон. Ему стало так неуютно, что захотелось забиться в какой-нибудь угол и закрыться с головой, как ребенку, одеялом…
Андрей Сергеевич, крепкий, в меру осанистый, всегда был богат той энергией и жизнелюбием, при котором разные чернушные, гнилые для здравия чувства слетали, как чешуя. А если такое и приключалось, то он приказывал слуге седлать своего мышастого, в белую картечину, Фараона и босой, в одном исподнем, во всю меть летел в поле. Стамливая рысака и себя до мыла, возвращался свежий домой, пропускал с Палычем душевную рюмку-другую жженки и садился, облегченный, за книгу, а то и за перо. Баловался Андрей, грешным делом, виршами, случались замыслы, что голове покоя не давали. И тогда душевную хворь будто кто рукой смахивал.
В море хандре места не было. Оно не терпело слез − и без того соли до черта. Преображенский зарубил это на носу еще в гардемаринскую бытность. Под бескрайним небом, в солено-горькой пустыне вод ты предоставлен самому себе, а вовсе не ангелу-хранителю. Правду сказать, океан располагает ко многому: того, кто не у дел, не стоит ходовую вахту и не храпит праведным сном подвахтенного, −волны склоняют либо к пустой созерцательности, либо к мудрености, и еще какой!.. Но в кают-компаниях, где бывал капитан, о Вольтере с Руссо не говорили, философскими сюжетами океанские глубины не измеряли; нередко вопрос стоял круто: жизнь или смерть.