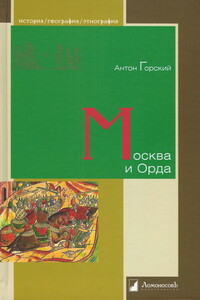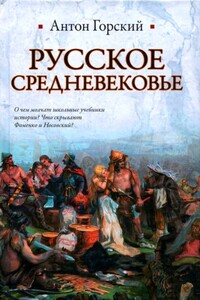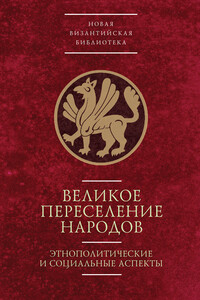«Всего еси исполнена земля Русская...» Личности и ментальность русского средневековья | страница 74
Когда в период с 1395 по 1411 г. реальная власть в Орде вновь оказалась в руках нелегитимного правителя — Едигея, московские правящие круги опять, как и в 70-е гг. XIV в., уклонялись от выплаты дани (хотя и не стремились идти на обострение отношений), т. е. от соблюдения главного атрибута зависимости; причем поход Едигея на Москву в 1408 г. не привел к восстановлению ордынской власти (как иногда постулируется в литературе): отношения с Ордой оставались враждебными и в последующие годы[395]. Зато после воцарения в 1412 г. сына Тохтамыша Джелал-ад-Дина, т. е. после восстановления легитимного правления, великий князь Василий Дмитриевич отправился в Орду (чего не делал при вступлении на престол ханов-марионеток Едигея)[396].
В 1414 г. Едигей вернулся к власти в Орде, вновь возведя на престол своего ставленника[397], и сразу же после этого, зимой 1414–1415 гг., московские войска двинулись походом на Нижний Новгород. Нижний, входивший с 1392 г. в великокняжеские владения, был пожалован Едигеем в 1408 г. князьям из местной династии[398]. Джелал-ад-Дин в 1412 г. подтвердил это пожалование[399], и, пока правили Тохтамышевичи, Москва не оспаривала его. Но как только к власти вернулся узурпатор, Василий I, очевидно посчитав себя свободным от обязательств (т. к. законного сюзерена теперь не было), отправил на Нижний Новгород войска, и город был возвращен под московскую власть[400].
В конце 10-х или начале 20-х гг. XV в. было создано «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго»[401]. В нем встречаем семь случаев (факт беспрецедентный во всей предшествующей русской истории) именования великого князя «царем»[402]. Очевидно, в глазах автора «Слова» право на такое титулование давало независимое правление Дмитрия (в 1374–1380 гг.) при отсутствии реально правящего царя в Орде. У самого Дмитрия Донского такие претензии не прослеживаются, речь следует вести об осмыслении событий в конце 1-й четверти XV в. человеком, который был свидетелем еще одного периода отсутствия в Орде «нормальной ситуации», — времени правления Едигея (1396–1411, 1414–1416, 1417–1419 гг. — около 20 лет в общей сложности). В «Слове о житии» встречается и еще одно примечательное явление — «царем» именуется прародитель Дмитрия Владимир Святой