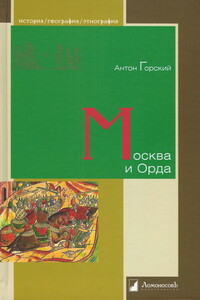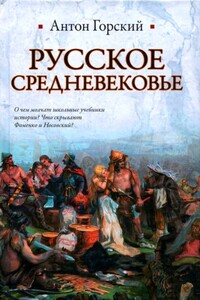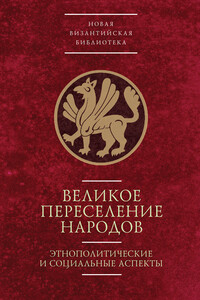«Всего еси исполнена земля Русская...» Личности и ментальность русского средневековья | страница 68
В исторической памяти потомков Дмитрий Донской остался прежде всего как победитель на Куликовом поле: именно Куликовская битва стала на века примером воинской доблести и вообще одним из ключевых пунктов исторического самосознания великоруссов. Но рассмотрение всей деятельности Дмитрия Ивановича приводит к заключению, что его политические достижения превосходят полководческие. Дмитрий не был столь природно одаренным воителем, как его прапрадед Александр Невский. Полководческое искусство он постигал через неудачи (показательно в этом плане, как оно возрастало в кампаниях против Ольгерда 1368, 1370 и 1372 гг.). И после блестяще проведенной кампании 1380 г. Дмитрию пришлось познать поражения (1382 и 1385 гг.). Зато как политик он неуклонно шел к своей главной цели — превращению Владимирского великого княжества из предмета вожделений князей разных ветвей в составную часть владений московской династии. Дмитрий добился признания этого Литвой, Тверью, наконец государством-сувереном — Ордой, причем в последнем случае сумев обернуть военное поражение политической победой. Первенствующее положение Москвы в северных и восточных русских землях перестало теперь жестко, напрямую зависеть от позиции Орды. С точки зрения исторической объективности первое определение Дмитрия Донского должно звучать как «политик, создавший основу государственной территории будущей России».
В изображении современниками и потомками места Дмитрия Донского среди правителей его эпохи бросается в глаза не только отмеченное в начале этой главы противоречие между прославлением этого князя как защитника Руси и отсутствием его почитания церковью как святого[363]. В «Слове о Житии» Дмитрия, написанном в конце 10-х или в 20-х гг. XV в., он многократно именуется «царем», т. е. титулом, прилагавшимся только к правителям высшего ранга, титулом, соответствующим западному «император»; само полное название этого произведения звучит: «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго». Но в летописных повестях о конфликте с Тохтамышем отъезд Дмитрия из Москвы объясняется нежеланием «поднять руку» на «самого царя» (т. е. хана) — великий князь выглядит здесь как человек, признающий свое более низкое положение по сравнению с царем. А Никоновская летопись, созданная в 20-е гг. XVI в., т. е. после полной ликвидации ордынского суверенитета, вкладывает в уста Тохтамыша (под 1384 г.) следующие слова: «А что неправда предо мною улусника моего князя Дмитреа Московского, и азъ его поустрашилъ, и онъ мнѣ служит правдою, и язъ его жалую по старинѣ во отчинѣ его»