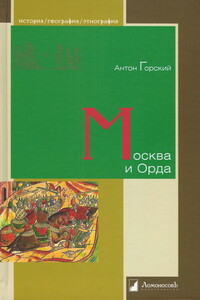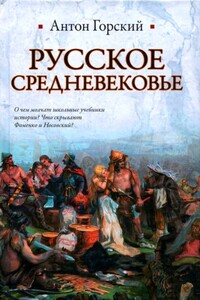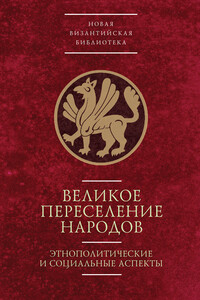«Всего еси исполнена земля Русская...» Личности и ментальность русского средневековья | страница 64
Мотивы поведения Дмитрия Донского, а именно оставления им столицы, вызвали противоречивые оценки в историографии: мнения колеблются от признания отъезда необходимым тактическим маневром, имеющим целью сбор войск[343], до объявления его позорным бегством[344].
Если рассматривать действия великого князя на широком историческом фоне, так сказать, «истории осад», то его поведение оказывается типичным. Известно немало случаев, когда правитель княжества в условиях неизбежного приближения осады его столицы покидал ее и пытался воздействовать на события со стороны[345]. Очевидно, существовало представление, что правитель должен по возможности избегать сидения в осаде — наиболее пассивного способа ведения военных действий[346]. Дмитрий действовал в соответствии с этими тактическими правилами. Белокаменный Московский Кремль выдержал две литовские осады, и великий князь явно рассчитывал на его неприступность (собственно, расчет был верным — штурмом татары не смогли взять город). Полагать, что Дмитрий не позаботился как следует об обороне столицы, оснований нет: князь Остей был не призван московским вечем (такую трактовку его появления можно встретить в литературе), а прислан великим князем[347].
Взятие столицы противника — несомненно победа, и Тохтамыш выиграл кампанию. Однако факт разорения Москвы не должен заслонять общую картину результатов конфликта. Тохтамыш не разгромил Дмитрия в открытом бою, не продиктовал ему условий из взятой Москвы, напротив, вынужден был быстро уйти из нее. Помимо столицы, татары взяли только Серпухов, Переяславль и Коломну. Если сравнить этот перечень со списком городов, ставших жертвами похода Едигея 1408 г. (тогда были взяты Переяславль, Ростов, Дмитров, Серпухов, Нижний Новгород и Городец), окажется, что без учета взятия столицы масштабы разорения, причиненного Тохтамышем, выглядят меньшими. А события, последовавшие за уходом хана из пределов Московского великого княжества, совсем слабо напоминают ситуацию, в которой одна сторона — триумфатор, а другая — униженный и приведенный в полную покорность побежденный.
Осенью того же, 1382 года Дмитрий «посла свою рать на князя Олга Рязанского, князь же Олегъ Рязанскыи не во мнозѣ дружинѣ утече, а землю всю до остатка взяша и огнемъ пожгоша и пусту створиша, пуще ему и татарьскые рати»[348]. Но главной проблемой был Михаил Тверской: поражение Дмитрия оживляло его претензии на великое княжение владимирское, казалось бы, похороненные в 1375 г.