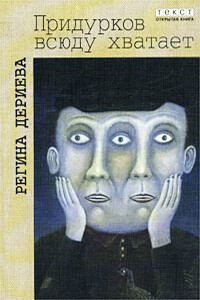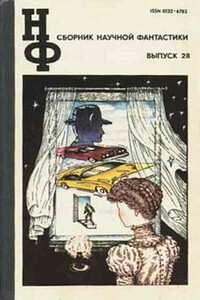Записки из «Веселой пиявки» | страница 45
— Видите ли, дамы и господа, собакофилы и собакофобы, вы, возможно, полагаете, что наблюдаемой вами работой языком наш ласковый друг выражает признательность за мое скромное подношение в форме куска колбасы. Так вот, ваше предположение безосновательно, легковесно и несомненно ошибочно. Дело в том, что в науке об эволюции существует такое понятие — экзаптация. Смысл этого, казалось бы, мудреного термина становится яснее, если мы увидим, что он образован сложением приставки ех (по-гречески «снаружи») и латинского арtare, ставшего корнем слова «адаптация». Это самой экзаптацией называют такой хитрый фортель эволюции: развился какой-нибудь орган у живой твари для выполнения определенной функции, а его можно приспособить и для другого дела. У вас, дамы и господа, язык появился вначале для того, чтобы, культурно выражаясь, кушать удобнее было, а со временем, много позже, эволюция его приспособила для болтовни. У птиц, к примеру, перья появились для сугреву, а уж потом — чтобы летать. Вот и волчата лизали морды родителей, чтобы те отрыгивали для них пережеванную пищу, а помаленьку это лизанье стало обозначать еще и подчинение слабого волка сильному, бета-самца — альфа-самцу. От своих предков это переняли нынешние собаки, вот и лижут людям что ни попадя: нос, губы, руки — люблю тебя, мой господин, люблю и повинуюсь. Согласен, Энурез?
И Веня протянул псу изрядный кусок колбасы.
При чем здесь Жомини, спросите? А черт его знает. Строчка красивая. Мол, пора завязывать с умными разговорами и выпивать. Причем косорыловку, а не Бог знает что.
Бог знает что себе бормочешь,
ища пенсне или ключи, отозвался бы любитель цитат Веня, не будь он занят Энурезом. Вот и сейчас я корябаю в тетради и бормочу про себя сожаления, что лишь раз успел толком — встретились у общей знакомой — поговорить со старым, много старше меня, мудрецом. Григорий Соломонович сидел в углу, между пыльной портьерой и письменным столом старой постройки — ветхое зеленое сукно, бронзовый замок чернильницы и внезапный белый айфон, — говорил негромко и как-то незаметно угнездил в мой ум и убедил принять сердцем простенькую мысль, так часто помогавшую мне в одиноком безверии среди уверовавших друзей и близких. Сам мудрец эту мысль облек в нехитрые слова. Я разделил бы веру — он слегка наклонял серебряную голову, поднимал на меня глаза олененка и чуть касался бледными старческими пальцами запотевшей стопки с ледяной водкой, — я охотно разделил бы веру, последователи которой не гордятся ею и не считают единственно верной. Простите нам убожество наше, говорят они, наш путь, может статься, не лучше других путей, но он нам по сердцу, примерьте-ка его на себя, вдруг он и вам придется впору, вот радость-то будет! Я разделил бы веру, которая признаёт: мы — неудачники, нам не удалось преобразовать этот мир, но ведь и другим это оказалось не под силу. Так стоит ли спорить, кто из нас лучше, чья вера правильна?