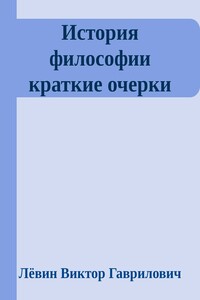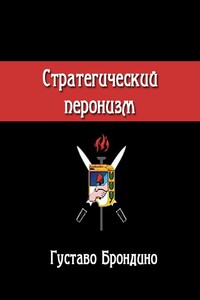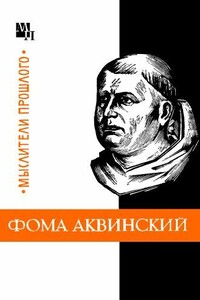Творческий потенциал современной школы | страница 12
В статье С. Булгакова «Героизм и подвижничество» отмечалось, что ожидания от русской революции не оправдались. Русское государство не обновилось и не укрепилось, в стране наступил мрак: идут многочисленные смертные казни, налицо необычный рост преступности, огрубление нравов; в литературе - вал порнографии... С. Булгаков говорил, что отныне утратили значение как наивная вера славянофилов, так и розовые утопии старого западничества. Разрушительная энергия революции оказалась сильнее созидательной. Мыслитель восклицал, что для преобразования России нужен образованный класс с русской душой, с просвещенным разумом, с твердой волей. Он признавал героизм старой интеллигенции, устоявшей под полицейским прессом и выросшей на клятве борьбы с самодержавием. К основным чертам русской интеллигенции С. Булгаков относил мученичество, мечтательность, утопизм, антимещанство. Но вместе с тем указывал на наследственное барство, неприятие упорного труда.
Разумеется, С. Булгаков говорил не обо всей русской интеллигенции. В его характеристике нет упоминания о разночинной и народнической интеллигенции, нет речи о революционной интеллигенции марксистского направления. Зато, будучи религиозном мыслителем, он подчеркивал переход значительной части интеллигентов на позиции атеизма. Этот атеизм, по мнению С. Булгакова, неглубок и берется на веру, как религия наизнанку. Для многих образованность и просвещенность стали синонимами религиозного индифферентизма. На атеизме, полагал С. Булгаков, культуру не построишь, поскольку для культуры важны высшие абсолютные ценности, а они даются только религией.
С. Булгаков имел в виду христианскую религию, а мечтал об общечеловеческой культуре как предмете веры и идеале. Но ведь человечество неоднородно по культуре и по фундаментальным верованиям. Есть разные типы мировой культуры, разные системы высших ценностей. Взять, к примеру, ценность человеческой жизни, и мы увидим, сколь по-разному она воспринимается христианством, исламом, иудейством или буддизмом. Сколь различен должен быть жизненный путь и подвиг человека, чтобы по меркам высших ценностей была оправдана его личная судьба, жизнь и смерть. Добавим, что разные культуры во многом оказываются несовместимыми, ведут подчас кровавую борьбу друг с другом. Как в таких условиях сформироваться идеальной общечеловеческой культуре, построенной на традиционных религиозных ценностях, непонятно.
Зато С. Булгаков понятен как религиозный деятель, когда противопоставлял революционному настроению мораль христианского смирения. Он говорил о необходимости религиозного подвижничества в бушующем страстями земном мире. Такое подвижничество предполагало послушание религиозному долгу. Этот долг требует всего человека, его душу, сердце, волю, и тогда христианин становится исполнителем воли Провидения. Неясно, однако, готов ли С. Булгаков сохранить за человеком какое-либо право на самодеятельность, на личную ответственность за собственный выбор в поведении, на личный вклад в культуру.