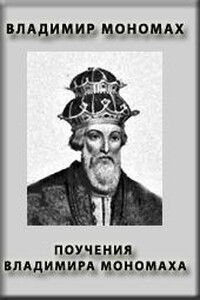Слово древней Руси | страница 5
Среди жанров светской литературы можно назвать летописную повесть (например, «Повесть об убиении Андрея Боголюбского»), послание («Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского»), позднее — бытовую повесть (например, «Повесть о Савве Грудцыне»). Некоторые произведения светской литературы вообще не подчинены канону или выходят далеко за его рамки: по-своему уникальны «Поучение» Владимира Мономаха, «Слово» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве».
Следующим немаловажным отличием древнерусской литературы от современной является совершенно иное отношение читателя к тексту произведения: попросту говоря, наши предки читали не так, как мы. Во-первых, читали вслух, особыми ритмовыми фразами, ориентируясь на специальные знаки в рукописи, при этом ритмовая фраза далеко не всегда совпадала с границей предложения. Попытка передать особый ритм произведения отразилась во многих переводах нашей книги — «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, «Житие Евстафия Плакиды», «Слово о полку Игореве», «Слово Даниила Заточника», «Слово о погибели Русской земли», «Задонщина», фрагменты из «Переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским» и некоторые другие произведения переведены с учетом ритма оригинала. Во-вторых, произведения древнерусской литературы читались неоднократно и были рассчитаны на медленное, вдумчивое, наконец, благоговейное постижение и освоение текста, занимательность которого в современном понимании этого слова вовсе не была главной. По тексту учились, причем не единоразово, а при каждом чтении, постепенно открывая для себя сокровенный смысл, узнавая цитаты, аллюзии, символы из Священного Писания, постигая мудрость жизни, смысл событий.
Отношение к книге как к учебнику жизни дает себя знать и в современности, а совсем уж в чистом, средневековом, виде сохранилось в отдельных случаях и поныне — прежде всего на Русском Севере или у старообрядцев. Об этом, в частности, свидетельствует в своей автобиографии писатель, авторитетный знаток Русского Севера, Поморья Б.В. Шергин: «Однажды я дал старику, моему дяде, комплект юмористического журнала „Будильник“. Он вернул мне журнал со словами: „Что же отсюда можно вынести?“» (выделено нами. — О.Г.)[3]. Можно не сомневаться, что такой же недоуменный вопрос задал бы и древнерусский книжник.
Для Древней Руси была привычна историческая тема, размышления о судьбе славян, Русской земли. Русский летописец знал, что славянская история — это часть мировой истории и писал о славянах как о потомках Иафета, сына библейского Ноя («Повесть временных лет»).