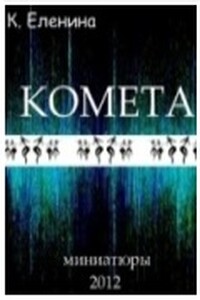Свет зажегся | страница 14
Она говорила это быстро, но без смущения. Ему так понравилось, как она рассказывает о волнующих ее темах, что он был готов даже молчать, несмотря на всю свою обычную говорливость. Было немного обидно, что он рассказал ей историю, в которой понял значимость своей жизни и чужой, раскрыл карты о своей деятельности, а в ответ получил вырезку из документального фильма, но теперь это все было ничего.
— Интересно, но я вот думаю, что можно быть очень эмпатичным человеком и причинять боль другим. Переламывать себя через колено, так сказать!
— Фигня.
— Инстинкт самосохранения, понимаешь?
— Ну если на самого доброго человеке в мире нападут топором, то понятно, что в целях самозащиты он может вырвать его и долбануть по голове агрессора.
— Смотри шире, желание остаться в тепле, быть с любимой, заработать деньги — это все тоже направлено на самосохранение.
— В таком случае, человек может причинить только такую боль, которая была в его жизни или которую он отчетливо способен представить, что она может случится с ним.
Полине показалось, что Толик улыбнулся, но присмотревшись, ей почудилось, что это оскал, как у ее любимой акулы или другого хищника с более пропорциональной мордой. Его лицо снова стало дружелюбным, только после того, как он опрокинул в себя очередную рюмку водки. Такие контрасты казались жуткими, будто бы мистер Хайд брал над ним верх, если его задеть.
— Я мог бы рассказать тебе неплохую сказку об опиатах. Но лучше я поведаю тебе историю под другим заголовком: ни боли, ни жалости, ни стыда. Она о моем отце.
Он отклонился назад на стуле с растерянной улыбкой, так сильно ему понравилось, как он сказал.
— Зовут его Орест, но в детстве, когда мне мама читала мифы Древней Греции, я думал, что Арес. Был он беркутом. Прикольно было бы, если бы он оказался птицей, но он был скорее ОМОНовцем, чем птицей. Совершенно точно это была его профессия. Он часто пропадал в разъездах, мы с мамой тогда были такими счастливыми вдвоем, а приезжал он поехавшей адреналиновой свиньей, даже на такой работе он не мог вылить всю свою агрессию. Батя пил всегда, но когда мне было шесть лет, он стал бухать практически не просыхая. Его, конечно, из беркутов выдворили, в конце концов. Он мог бы пойти работать в милицию, но не сложилось. Тогда он приобрел уже такую дурную славу, что стоило ему перейти их порог, они пристрелили бы его как паршивую собаку. Два года он только и делал, что пил, но история будет не об этом, а о том, как мы переехали в Москву.