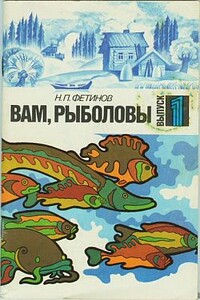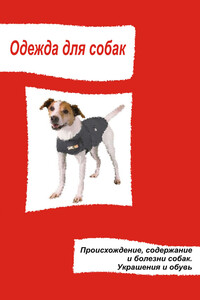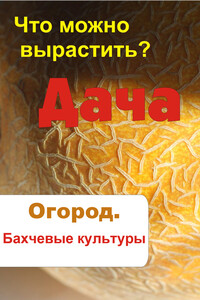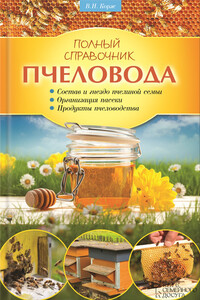Народное Творчество 12-91 | страница 9
удивительна! Тут уж и впрямь можно сравнить его с человеком. Однако с течением времени уже в первой половине XX века представления о медведе, имевшие первоначально тотемическую окраску, изменились. Мифологическое значение праздника стало забываться, а необходимость его театрализованного проведения объясняется опасностью охоты на медведя, встреч с ним. Сегодня медвежий праздник для хантов и манси — важнейший элемент национальной культуры, присущий именно этим народам.
В их фольклоре медведь неизменно выступает сыном (или братом) Торума — верховного божества. В «Медвежьих песнях» рассказывается: жил медведь на небе, но в наказание за непослушание был спущен на землю, получив от Торума указание, как себя вести. Впоследствии он был убит богатырем, но Торум придал тени медведя прежний вид и приказал навсегда остаться на земле...
С другой стороны, медведь — сын «женщины-прародительницы», брат ее детей, потому ханты и манси воспринимали его как брата. В таком вот мифологическом родстве и прослеживаются древние тотемические черты «медвежьего культа». К началу XX века сложился культ медведя — «хозяина тайги», обладающего одновременно и божественной, и человеческой, и звериной природой. Богатство и разнообразие содержания праздников, связанных с образом медведя, охватывало все стороны жизни хантов и манси — достаток (чтобы было много рыбы и мяса), а также условия и продолжительность самой жизни. Для местных охотников и рыболовов хозяйственный и праздничный календарный цикл, в отличие от земледельческих народов, обычно не ограничивался привычным нам годом, а был трех-, семи- или даже двенадцатилетним. Границами периодических медвежьих праздников было зимнее солнцестояние и весеннее равноденствие. Обряды первоначально повторялись через семь лет и носили общее название «Яны Йикв» — «Большие танцы». Проходили они обычно в селе Вежакры, что на Оби. А начинались ритуалы в полнолуние «месяца короткого дня», то есть в конце декабря. Тогда праздновали четыре ночи, потом наступал перерыв в пять-семь ночей. Праздники продолжались в течение января и февраля. В начале марта снова праздновали семь ночей. Цикличность таких ритуалов заканчивалась в пору весеннего равноденствия.
Первоначальная часть обрядов обращена к «когтистому старику», имевшему облик медведя. Ему и посвящались песни, сказания о медведе и происхождении людей — «пор»[4], танцы предков родов, интермедии в масках и коллективные танцы. Для заключительной части праздника характерно исполнение не только медвежьих, но и «птичьих» песен, танцы, отражавшие различные занятия людей. Например, танцы с саблями или мечами, для чего служили доскообразные деревянные палицы... Особую важность участники праздника видели в том, чтобы затушевывать вину людей за убийство и поедание мяса медведя. Отсюда и обряды уподобления птицам, и «птичьи» песни... Эмоциональный накал праздника нарастал к его концу — приходу семи лесных духов-менквов. Вбегавший перед ними человек говорил, что вооруженные палицами менквы идут покарать людей. Менквы выступали предками «пор» и имели черты, сближавшие их с медведем. Приход менквов сопровождался изображением комаров и других насекомых, которые нападали на людей, кричали, создавали полный беспорядок. В такой обстановке находили виновников — две деревянные фигуры — мужскую и женскую, игравших роль «козла отпущения». Их отдавали менквам как искупительную жертву. На куклах оставляли следы крови, считавшиеся «священными». Затем исполнители ролей менквов уносили куклы в тайное святилище, разбивали их на части и бросали в огонь. Все были очень рады такому финалу, так как в этих куклах видели причину бед человеческих. Позднее этот обряд изменился и принял форму кукольного представления на медвежьем празднике.