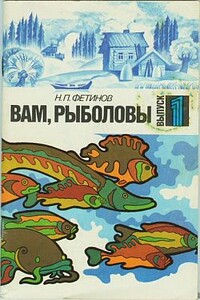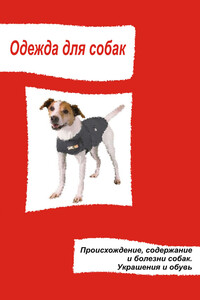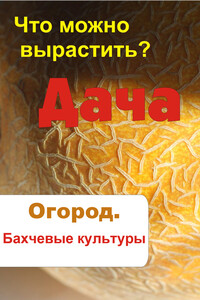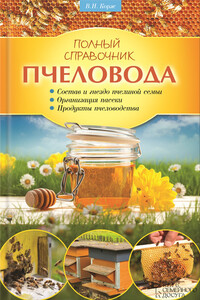Народное Творчество 12-91 | страница 10
Своеобразная форма календарного периодического медвежьего праздника сохранилась до наших дней у манси, живущих в Свердловской области. Охотились они на медведя осенью, мясо сохраняли на холоде, а праздник устраивали на Новый год, когда дети приезжали на каникулы. К сожалению, в течение учебного года дети из мансийских семей воспитываются в интернате и почти лишены родительского влияния. Вот и стремятся взрослые манси восполнить этот пробел в развитии национальной культуры.
У этой группы манси существовали и специальные термины для обозначения медведя и его мяса. Например, медведь «консынг ойка», то есть «когтистый старик», а «уй» — значит «зверь». Но так называли медведя лишь те, кто в состоянии его убить. Женщины же говорили — «апщикве» — братишка. А собираясь на медвежий праздник, обычно говорили: «Медведя танцевать едем»...
Танцы лозьвинской девушки, пелымского человека, хантыйки, русской женщины отражают различные стороны жизни людей, контакты отдельных групп манси между собой. Популярен здесь танец «Чёхсовтын тан», посвященный выделке шкурки соболя. Ближе к окончанию праздника устраивают священные танцы, в которых участвуют пять-семь мужчин, одетых в мансийские рубашки. На голове у них повязаны платки, ими же завернуты руки.
Игры имеют форму гаданий о будущем промысле. Одна из них — «Ипых» (филин) заключается в том, что приходит человек, изображающий филина. У него в руках топор, которым он стремится попасть в зарубки на специальной палке. К примеру, если попадет в среднюю, то в скором предстоит охота на медведя, а значит, и новый медвежий праздник. К его заключительной части относится и интермедия «хулак ехтыс» — «ворон прилетает». Во время поедания медвежьего мяса манси подражают крикам ворона, пытаясь таким образом ввести медведя в заблуждение, снять с себя вину за его убийство. Особую роль играл ворон в заключительных сценах медвежьего праздника, когда зверь должен был покинуть людей. При этом всех обсыпали снегом, много шумели, боролись, словно бы отвлекая внимание медведя. Характерно, что «хозяин» медведя — охотник, убивший зверя, изображался ни в чем неповинным.
Тут же появлялись и двое мужчин в масках ворона. Они нападали на медведя, переворачивали его колыбель, захватывали зверя и покрывавшую его жертвенную одежду. Существовал и другой вариант такого театрализованного представления. Например, мужчина, изображавший ворона, танцевал, потом подходил к медведю и делал вид, что отрезает что-то от его морды. Люди криками прогоняли «ворона» из дома, но он возвращался и отрезал голову медведя, заворачивал ее в платок со словами: «Я нашел чистое живое серебро, я нашел чистое живое золото»,— убегал. В дверях у него медвежью голову отнимал «хозяин» медведя. Эти сценки показывают, что в медвежьем празднике существовало противопоставление медведя и ворона. Если рассматривать «медвежий культ» в общей мифологической картине мира манси, то здесь прослеживается последовательный дуализм. Причем медведь связывается с земным миром, а ворон (как, естественно, все птицы) с верхним небесным миром. И тот и другой персонаж восходят, вероятно, к мифологическому олицетворению традиций «двух половин народа» (земных и небесных людей).