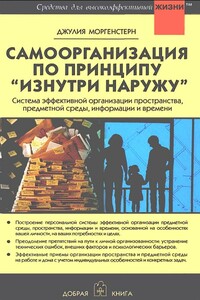Формулирование психоаналитического случая | страница 69
Личная история
Личная история человека — еще одна явная, но, вероятно, недостаточно ясная составляющая в категории «неизменяемых». Повторюсь, это может показаться слишком очевидным, чтобы заводить отдельный разговор, но все же в психотерапии возникает множество проблем, когда пациенты отказываются признать, что прошлое нельзя изменить и никто не собирается компенсировать им незаслуженные страдания прошлого. Кроме того, сострадание к человеку и ощущение грандиозности, возникающее у терапевта от осознания своей роли, постоянно подталкивает его к мысли, что он в состоянии исправить прошлое — вместо того, чтобы помочь пациентам признать его и продолжать жить дальше. Как женщина, которую плохо кормили в детстве, не сможет исправить нанесенный ее здоровью вред, даже если она будет правильно питаться во взрослом возрасте, так же и человек, подвергавшийся психологическому насилию в детстве, не освободится от оставшихся в его душе шрамов. Однако то, чего они могут достичь, гораздо важнее.
Люди часто пытаются избежать оплакивания событий своего прошлого, отчаянно цепляясь за спасительную идею, что им причитается (defense of entitlement), т. е. им кажется, что раз в прошлом с ними обходились несправедливо, то теперь жизнь (включая терапевта) должна это компенсировать. Временами, в особенности при работе с пациентами с очень тяжелым прошлым, месяцы и годы уходят на то, чтобы они приняли тот факт, что терапия предназначена не для излития постоянных жалоб и попыток заставить других возместить ущерб, а для решения текущих проблем. Терапевты, присоединяющиеся к фантазиям пациентов о том, что преступники должны заплатить за злодеяния прошлого, навлекают тем самым беду. На самом деле, как и Фроули-О’Ди (Frawley-O’Dea, 1996) я бы сказала, что это движение синдрома ложных воспоминаний>19>, которое тревожит тех, кто работает с последствиями эмоциональных травм, не возникло бы, если бы некоторые терапевты не присоединились к сопротивлению пациентов оплакивать то, что нельзя изменить, и не поощряли преследовать в судебном порядке тех, кто причинил им вред. В юридическом смысле это возможно и справедливо, когда преступники отвечают за свои злодеяния, однако в психотерапии до пациента важно донести понимание, что в их силах изменить собственную жизнь, вне зависимости от того, понесет ли наказание виновный в этом человек. При работе с людьми, которые смогли привлечь к ответственности насильника из их детства и получить от него компенсацию, терапевтов поражает, что, хотя это и подтверждает, что пациент не «сумасшедший», когда он говорит об объективности своих воспоминаний о насилии (важный, но не разделяемый всеми пациентами результат), неожиданного облегчения давних страданий не происходит. Даже если преступник и признался, обычно возникает болезненное депрессивное состояние, поскольку ущерб уже был нанесен и его нельзя отменить. Первой реакцией, возникающей у большинства из нас, когда мы слышим обращенное в прошлое признание вины, — например, когда находящийся в процессе выздоровления отец-алкоголик просит прощения у своего взрослого ребенка за тот вред, который нанесло его пьянство, — будет недовольное «слишком мало, слишком поздно».