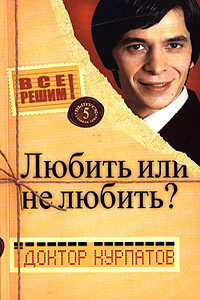Формулирование психоаналитического случая | страница 13
Я годами размышляла над этими вопросами. По мере того как успешно издаваемое Американской психиатрической ассоциацией (1968,1980,1987,1994) «Диагностическое и статистическое руководство по психическим болезням» (DSM) становилось все более беспристрастным, описательным и возможно далеким от теории, в нем неизбежно уменьшились субъективные и дедуктивные аспекты диагностики, на которые опираются многие практикующие специалисты. Еще одним не вполне очевидным источником знаний, используемым наряду с эмпирически подтвержденными категориями DSM, являются передаваемые из уст в уста или через практико-ориентированные журналы клинический опыт, сложные умозаключения и устойчивые общие впечатления практикующих терапевтов. В каждом конкретном случае эти характеристики порой нелегко уживаются с поставленным пациенту формальным диагнозом. Одна из задач, которую я ставлю здесь, — представить это незримое и принятое множество методов и мнений.
Субъективная или эмпатическая традиция
Для ученого-эмпирика субъективность человека в основном является помехой на пути к точным измерениям. Для практикующего специалиста, напротив, субъективность открывает доступ к знанию о человеке, которое невозможно получить другим способом (полагают, что физики редко «сопереживают» частицам). Многие современные психоаналитики (например, Kohut, 1977; Mitchell, 1993; Orange, Atwood, & Stolorow, 1997) определяют психоанализ, по сути, как науку о субъективности, в которой эмпатия аналитика имеет первостепенное для исследования значение. Многое из того, о чем я пишу в этой книге, отражает эту ориентацию на субъективное или эмпатическое. Клинические наблюдения, полученные в результате такого подхода, играют важную роль, в особенности если они были получены добросовестно и неоднократно сопоставлены с результатами коллег.
Несколько лет назад я согласилась принять участие в исследовании для кандидатской диссертации, посвященной диагностическим предпочтениям психоаналитических и когнитивно-бихевиоральных терапевтов. Я должна была «провести диагностику в своем привычном стиле» того материала, который мне представят на видео. Предполагалось, что на этой записи пациент будет описывать определенные проблемы. Я должна была посмотреть запись, а затем заполнить опросник. Все время, пока я просматривала эту запись, мне казалось, что женщина, рассказывавшая о своих проблемах, не была пациенткой. В том, как она вела себя перед камерой, полностью отсутствовала эмоциональная атмосфера, которая возникает, когда испытывающий страдания человек обращается за помощью. Я быстро поняла, что из-за этого я не смогу «диагностировать» ее так, как я делаю это обычно при клинической оценке, а именно с помощью эмпатического погружения в субъективные переживания человека, который обращается к профессиональным знаниям и навыкам терапевта, и внимательного исследования того, что возникает в ответ в моем собственном субъективном опыте. В первом пункте опросника спрашивалось: «Какова была ваша реакция на пациента?» — на что я ответила: «Это актриса, а не настоящий пациент». Я не смогла ответить на последующие вопросы, поскольку для этого необходимо было предположить, что женщина, представленная в этой записи, была настоящим пациентом.