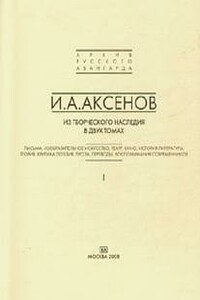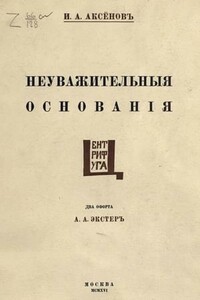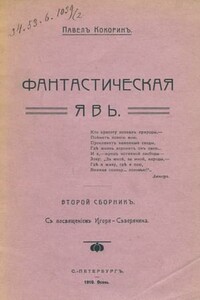Из творческого наследия. Том 2. Теория, критика, поэзия, проза | страница 41
Молодые пролетарские поэты в начале своей деятельности пробовали усвоить стиль Маяковского в своем изложении. Теперь, поскольку могу судить, эти попытки оставлены. Гипербола Маяковского оказалась, по-видимому, слишком индивидуальным приемом и развиться в стиль не может. Да наше время уже не удовлетворяется более или менее беспредметным лиризмом. Повествовательный элемент все отчетливей пробивается в современную поэзию – творчество поэтов Октября обещало развитие этого фактора в новый стилистический метод. Роман Сельвинского>37 опередил медленность этой Эволюции и, кажется, определил собой ближайший этап форсированного развития нашей поэзии.
Естественное ее развитие имеет своим источником и работу другого нашего современника. Ее все растущее влияние имеет свои причины, подлежащие изучению более необходимому, чем уже уходящая, прекрасная, но старозаветная лирика Маяковского, исчерпанная уже до конца как и его личным творчеством, так и восприимчивостью внимательных к нему поэтов.
На примере Маяковского мы уже видели, насколько субъективно бывает ощущение новизны формы и насколько неосторожны построенные на таком ощущении выводы. Убежденность в строгой приверженности Демьяна Бедного к традициям русских поэтов XIX века, по-моему, покоится на явном недоразумении. Помимо того, что некрасовский четный восьмисложник с дактилическим окончанием нерифмованного стиха>38 встречается только в одной поэме Д. Бедного, а стало быть не может быть признан для него с основной манерой письма, в равной мере и основанием для сближения автора поэмы «Про землю, про волю»>39 со стилем поэта «Кому на Руси жить хорошо», недостаточно обоснованными надо считать и попытки вывести поэтику Д. Бедного из частушки: частушек Д. Бедный написал гораздо меньше, чем басен или поэм, изложенных так называемом раешником (входить в метрическое разбирательство этого термина – дело для меня весьма интересное, но читателю полагаю нелюбопытное). Именно сатира басни и сатира раешника являются наиболее постоянной манерой изложения нашего современника, они и определяют его стиль, говоря формально.
Традиционность их достаточно сомнительна. Именно в XIX веке обрывается басенная традиция, а раешник в нашей литературе как разработанная форма поэзии вовсе не изменялся. Поскольку новым считают давно забытое – басня, как постоянный тип изложения для нас имеет все права считаться новшеством, а литературный раешник таким новшеством является и без упомянутой предпосылки. Могут возразить, что свою манеру письма Д. Бедный вырабатывал и до войны и до революции, относя его на этом основании к дореволюционному стилю нашей литературы. Такая точка зрения слишком много раз служила отправлением критики, чтоб на ней не было соблазнительно задержаться.