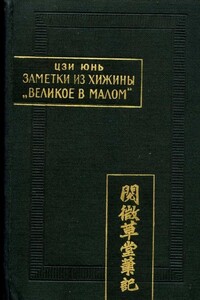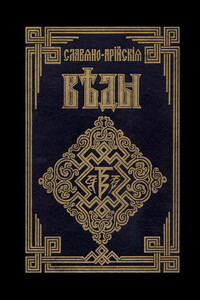Чхандогья упанишада | страница 13
В целом видно, что первая половина Ч (особенно части I–III) носит более раздробленный характер; вторая половина — более компактный. Это, по-видимому, естественно, если учесть, что в первой половине преобладают отдельные рассуждения, почти не объединенные каким-либо композиционным приемом, в то время как во второй половине текста в качестве такого приема выступает беседа, связывающая отдельные рассуждения в единое сюжетное целое[64]. Возрастание удельного веса таких бесед по частям памятника видно из следующих данных[65].
I: 4 главы из 13 (8–9— брахманы и Правахана; 19–11 — Ушасти и жрецы).
II: 0 глав из 24.
III: 0 глав из 19.
IV: 15 глав из 17 (1–3 — Джанашрути и Райква; 4–9 — Сатьякама; 10–15 — Упакосала).
V: 22 главы — из 24 (3-10 — Уддалака и Правахана; 11–24 — шесть брахманов и Правахана).
VI: 16 глав — из 16 (1-16 — Уддалака и Шветакету).
VII: 26 глав из 26 (1-26 — Нарада и Санаткумара).
VIII: 6 (или 9) глав из 15 (1–3 — ученики и учитель (?); 7-12 — Праджапати, Индра и Вирочана).
Определение хронологической соотнесенности отдельных эпизодов Ч (как и для Бр) крайне ненадежно. Отдельные отрывки допускают возможность распределения в весьма широких хронологических рамках. Вот, например, такое распределение частей Ч, согласно Белвалкару и Ранаде[66].
Распределение это, основанное на сравнении отдельных текстов упанишад, отнюдь не представляется бесспорным. Так или иначе, если даже допустить, что отдельные части Ч восходят к устным и письменным источникам разных периодов[67], следует иметь в виду, что индуистская аудитория воспринимала и воспринимает этот памятник целиком, в единстве всех его частей. Такому восприятию, по-видимому, содействовали определенные параллелизмы в структуре текста Ч, прослеживающиеся на всем его протяжении, во всех его частях. Эти внутренние закономерности проявляются и в некоторых упоминавшихся уже особенностях языка и стиля ряда глав и параграфов, и в зависимости величины каждого законченного отрывка от характера изложения (беседа, безличное повествование), и в принципах описания отдельных реалий — например, весьма употребительное деление на триады: ср. II.23, IV.11 и сл.; VI.2 и сл. (параллелизмы, отмеченные Пшилуским[68]). Мы упоминали уже о рекомендации должного знания — «внутреннем» ритуале, красной нитью проходящем через весь текст. Весьма характерна в этой связи подача сведений о мифе и ритуале — так, например, однократно или несколько раз встречающееся сочетание определенного догматического положения с рекомендацией должного знания, обрамленное какой-либо несложной сюжетной канвой [условно обозначенное как М (n M