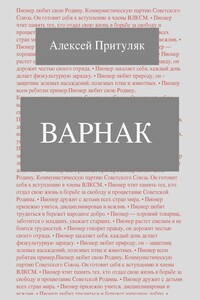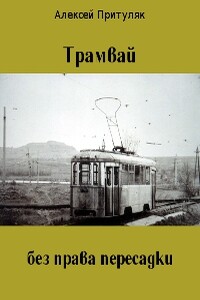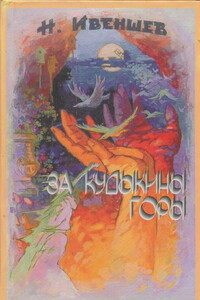Аника и птицы | страница 6
Вдвоём они вынесли бабушку во двор, уложили в старые дряхлые нарты, сами стали в упряжь и, сопровождаемые стаей птиц, медленно сошли к реке по единственному более-менее отлогому спуску, по которому в тёплое время Аника с бабушкой ходили за водой или со стиркой.
Когда спустились к проруби, подняли бабушку с нарт и опустили на лёд рядом с лункой. Долго стояли и смотрели на неё, лежащую, строгую, с запавшими в глазницы веками и сурово поджатыми губами. Бабушка была одета в шапку, тёплую парку, новые узорчатые вычки, меховые куты, которые она надевала только по большим праздникам, и пимы, так что строгость её несколько смягчалась нарядностью — это помогало развеять впечатление, будто бабушка сердится. Но нет, конечно же, она не сердилась, — просто её вид соответствовал торжественности происходящего.
Наконец, Тылко поклонился ей земно, потом, бормоча что-то себе под нос, быть может, прося прощения за неловкость, сноровисто завернул бабушку в тюленью шкуру, хорошо смазанную жиром изнутри и снаружи, обвязал ремешками из тюленьей же кожи. Потом взял бабушку за ноги и стал медленно и аккуратно погружать её в воду, следя за тем, чтобы бабушка уходила под лёд в правильном направлении, чтобы не утащило её нечаянно к лыге, где она протомится до самого ледохода, чтобы течение относило её чуть левее, ближе к тому берегу, на котором выстроилась парма, где река бежит немного быстрей и свободней.
Аника с интересом смотрела на то, как бабушкино тело постепенно скрывается в ледяной воде — сначала бледное строгое лицо с прядью седых волос, выпавшей из-под шапки, потом плечи, торс, бёдра… По спине Аники пробегал озноб, когда она представляла себе, как эта густая тёмная жижа обнимает бабушку, проникает сквозь одежды к ещё не до конца остывшей коже, заставляя её покрыться гусиными пупырышками. Наконец Тылко уже под водой разжал пальцы, навсегда отпуская бабушку — больше уже никогда ничья тёплая рука не коснётся её, и только пучеглазые сонные рыбы будут удивлённо всматриваться в её лицо с запавшими в пустые глазницы веками.
Бабушка уплывала, а Тылко стоял и пел тягучую древнюю песню, которую всегда поют усопшим на прощание и в поминание — просят их не держать обид на остающихся, не чинить им зла, не насылать дурных снов и беспричинной тоски, зубной боли и икоты. Тылко всё пел, а белого бабушкиного лица и тёмного силуэта уже давно не было видно подо льдом. А птицы кружили над ними и кричали на разные голоса, садились на плечи Анике и пощипывали её уши, щёки или губы — просили вернуться в тепло, глупые непонятливые птицы. Но Аника и Тылко всё стояли, глядя на хмурую парму, на белое змеиное тело реки, стиснутой обледенелыми берегами, и она отмахивалась от птиц, и обиженные создания вспархивали с её плеч, крича и жалуясь. А по темнеющему небу расплывались ярко-зелёные сполохи северного сияния