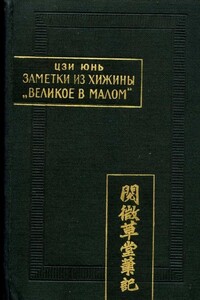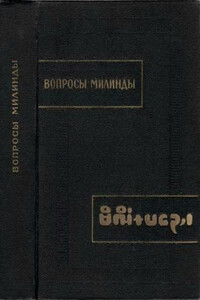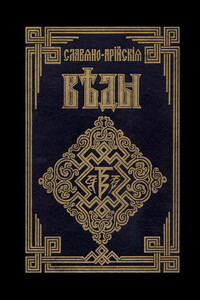Брихадараньяка упанишада | страница 30
Подобные оценки часто не учитывают некоторые специфические черты древнеиндийской литературы, присущие и ранним упанишадам. Это, прежде всего, неизменный этико-практический характер древнеиндийских рассуждений, воззрений, философских систем. Отдельные сведения преподаются не ради самих себя, не ради чистого знания, а с целью выработать определенные нормы поведения, в данном случае — нормы этического совершенствования. На этом пути хороши все средства — и умозрение, и аскеза, и обряд[91]. Разумеется, оценка этих средств не одинакова: первое предпочтительнее второго и тем более третьего, — и в этом характерная особенность упанишад, но важно, что все эти средства сами по себе отступают на второй план перед целью. Именно поэтому переход, скажем, от абстрактного рассуждения об Атмане к ритуальному наставлению звучал для индийского читателя совершенно иначе, чем для читателя иной страны, эпохи, культуры.
Здесь мы переходим к другой специфической особенности некоторых упанишад. Это охват в них самых различных сторон человеческого поведения — обрядовой практики и отвлеченной спекуляции, семейных обязанностей и аскетического просветления. Эта черта роднит такие упанишады, как Бр, Ч, с рядом памятников индийской дидактики — Бхагавадгитой, шастрами. В более широком аспекте подобный синтез различных элементов, соположенность их в рамках одного комплекса (будь то произведение в целом или столь частые перечни в отдельных предложениях) присущи построению многих образцов научного и художественного творчества древних индийцев[92]. Эта особенность заслуживает самого внимательного изучения, представляющегося нам весьма плодотворным.
Далее, очень важной, так сказать, технической особенностью, объединяющей самые разнородные внешне детали и пронизывающей как «примитивные», так и «возвышенные» мысли, является отмеченное уже магическое отношение к знанию: знание свойств какого-либо предмета равносильно овладению этим предметом, приобретению его признаков; познание часто означает слияние с объектом познания[93]. Отсюда соответствующие рефрены в конце многих параграфов, отсюда внимание к осмыслению ритуала (обычно как постулирование тождества между элементами жертвы, частями тела, человеческими свойствами, феноменами природы и т. д.) — осмыслению, уже почти заменяющему сам ритуал. Логическое завершение этого процесса — познание Атмана, равносильное слиянию с высшей реальностью, достижению блаженства. Отмеченный практицизм, использующий все пути к достижению цели, хоть и по-разному их оценивающий, составляет важную черту