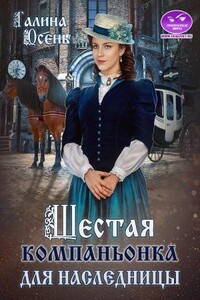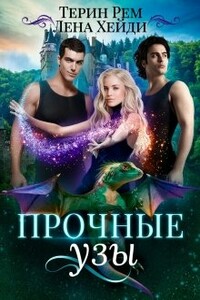Рубедо | страница 42
— Я буду послушным! — сказал Генрих и заплакал. — Пожалуйста, учитель! Не отдавайте меня злому Богу!
Учитель рассмеялся и, потрепав мальчика по взмокшим волосам, зашагал вперед. А Генрих замешкался. Тогда и услышал сухое потрескивание, как если бы над его головой ломали веточки хвороста или чьи-то иссушенные кости. Запрокинув лицо, он увидел огненное колесо: оно вращалось с невероятной скоростью, и было раскалено-белым, но совсем не горячим, зато Генрих чувствовал, как поднимаются волоски на его теле — все вместе и каждый в отдельности. Мальчик прирос к месту, не в силах ни побежать, ни позвать на помощь, а только следил за бешеным вращением огня, в последний момент успев заслониться руками.
Взрыв был такой силы, что мальчика отбросило на землю. Трава вокруг была сожжена, и одежда на Генрихе висела черными лохмотьями. Контуженного и обморочного, его доставили во дворец. Тогда и обнаружили, что, кроме обожженных ладоней, Генрих никак не пострадал.
Небесный огонь вошел в его руки и остался тлеть под кожей.
Отмеченный Богом.
Спаситель.
Смертник.
— И все же, — продолжил лейб-медик, вытряхивая Генриха из воспоминаний, и с каждом словом все глубже вколачивая мигренозную спицу в его затылок, — я советую прислушаться к рекомендациям. В противном случае… — он поджал губы и скорбно глянул на Генриха поверх пенсне, — буду вынужден доложить его величеству.
— Донести? — дыхание перехватило. Огонь рвался наружу, глодал суставы и жилы, и Генрих сжал кулаки, ощущая, как скапливается и потрескивает в мышцах напряжение.
— Ваше высочество, это не…
— Я понял! — перебил Генрих, отшатываясь. — Снова контроль! Доносы! Жалобы! — его речь стала отрывистой и быстрой, слова выкатывались с языка крохотными шаровыми молниями. — С детства я словно в тюрьме! Не могу заниматься тем, что мне нравится! Ходить без сопровождения шпионов и гвардейцев! Всюду слежка! Обязательства! Интриги! Довольно!
Кулак с глухим стуком опустился на подлокотник кушетки.
Генрих не услышал треска и не почувствовал боли, как не почувствовал ее пятнадцать лет назад, только сощурил глаза от нереально яркой вспышки и инстинктивно отклонил голову. Пламя жарким языком коснулось уха, и Генрих услышал крик лейб-медика:
— Стража! Скорее, стража!
Огонь полыхал, пожирая его руку и подбираясь к плечу, сворачивая ткань рукава в хрусткую черную бересту.
— Живей, живей!
Захлопали двери. Эхо шагов отзывалось в голове болезненным гулом. В густом оранжевом зареве неясно, кто перед ним, лишь слышен сдавленный крик: