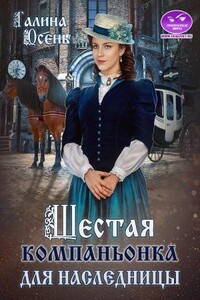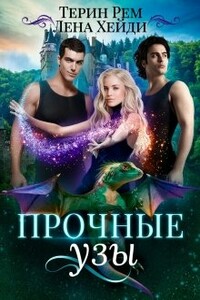Рубедо | страница 115
— Сид… дите, — тихо сказал Генрих, опираясь спиной на дверь и чувствуя, как поясницу холодят медные ручки. — Вы ждали меня? Прелестно.
Приблизившись к Ревекке, поддел пальцем за подбородок. Она задрожала, глядя на Генриха снизу вверх: тени подчеркивали не первую молодость, длинный нос еще больше заострился и стал походить на воткнутый между сырными щеками нож.
— Вы знаете, почему я здесь? — осведомился Генрих, не отпуская ее лица и наслаждаясь запретным прикосновением и ответным страхом.
— Да, ваше высочество. Супружеский долг…
— Долг! — он поднял указательный палец. — Как много в эт… том слове. Долг перед империей и династией! Да, моя дорог… гая! Главное — династия.
Он тяжело опустился — почти упал, — рядом. Узоры на потолке шли рябью, и масляное лицо Ревекки расплывалось и превращалось в другое — либо баронессы фон Штейгер.
— Династии нужен наследник, — продолжил Генрих уже по-авьенски, безуспешно пытаясь сфокусировать взгляд. — Сын — это власть. А власть — это не т… только обязательства… но и возможности. Не правда ли, Мар… гит? Я не многого прошу. Всего одну возможность!
Она склонилась над ним — взволнованная, белая-белая, как привидение. Генрих позволил стащить с себя сапоги, а потом увлек ее на подушки. Голова гудела, как колокол, пряный вкус вина смешался с легкой кислинкой от поцелуя.
— Вы дрожите? — шептал он, нависая над женщиной, и уже не понимая, кто перед ним — Маргарита ли, Ревекка, а, может, Марци. — И правильно. Я могу сд… делать больно. А иногда хочу сделать больно… но вы терпите.
— Ох, Генрих! — всхлипывала она, тянулась мокрыми губами.
Он уворачивался от поцелуя: — Без нежностей, прошу! — и сминал ее сорочку, оголяя бедра — выше, выше! — пламенея от открывающейся ему наготы. Да и какая разница? В определенный момент все женщины становятся одинаковы, и он выцедил сквозь плотно сжатые зубы:
— Лежит… те тихо. Тогда я не обожгу вас…
И, нарушая все запреты, скользил перчатками по оголенному телу, втайне надеясь, что его прикосновения достаточно горячи, и этим утоляя первобытную охотничью злобу.
Потом, вобрав вместе со вздохом надсадный женский вскрик, он начал двигаться скупо и резко. Пьяная ночь дышала в затылок. Над изголовьем елозили тени. И где-то за окном — а Генриху казалось: внутри него самого, — заступая на еженощную вахту, бились и умирали мотыльки.
Он умирал вместе с ними, с каждым выдохом распадаясь на части и с каждым вздохом возрождаясь вновь, но лишь для того, чтобы в конце, выплеснувшись жизнью, упасть на беспросветное дно