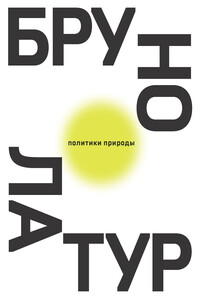Дайте мне лабораторию, и я сдвину мир | страница 24
Видение лаборатории, как технологического аппарата для обретения силы посредством умножения количества ошибок, станет очевидным при рассмотрении различий между политиком и ученым. Они типично различны как в познавательном, так и в социальном отношении. О политике говорят, что он алчный, интересуется только самим собой, недальновидный, неоднозначный, всегда готовый на компромисс и неустойчивый. Об ученом говорят, что он бескорыстный, дальновидный, честный или, по крайней мере, скрупулезный, говорящий открыто и определенно и стремящийся к достоверности. Все эти различия являются искусственными следствиями одной простой вещи, материальной вещи. Дело в том, что у политика нет лаборатории, а у ученого есть. Поэтому политик работает на полном масштабе, всегда находится в центре внимания и вынужден постоянно делать выбор. Все, что с ним происходит (безотносительно того, добивается ли он успеха или нет), происходит «снаружи». Ученый работает на моделируемых масштабах, умножая число ошибок внутри своей лаборатории, не будучи доступным для всеобщего обозрения. Он может ставить столько экспериментов, сколько ему потребуется, и выступает только после того, как сделал достаточное количество ошибок, чтобы достичь «определенности». Не удивительно, что в итоге политик не обладает «знанием», а ученый обладает. Однако различие здесь заключается не в «знании». Если вы поменяете их местами то, оказавшись в лаборатории, алчный, недальновидный политик начнет производить большое количество научных фактов, а честный, бескорыстный и скрупулезный ученый, оказавшись у руля политической структуры, в которой все происходит на крупном масштабе, и не допускаются никакие ошибки, сразу станет неоднозначным, неуверенным и слабым, как и все остальные. Специфика науки заложена не в познавательных, социальных или психологических качествах, а в особом устройстве лабораторий, позволяющем осуществлять смену масштаба изучаемых явлений с целью сделать их удобочитаемыми, а затем увеличить число проводимых экспериментов с тем, чтобы зафиксировать все допущенные ошибки.
Тот факт, что лабораторные условия являются причиной силы, обретаемой учеными, становится еще более очевидным, когда люди пытаются вне лаборатории достичь таких же определенных заключений как выводы, получаемые в лаборатории. Как я указал выше, можно сказать, что относительно лабораторий не существует внешнего мира. Лучшее, что можно сделать, это распространить на другие места «иерархию сил», однажды достигнутую в лаборатории. Я показал это на примере сибирской язвы, но данный вывод является всеобщим. Мистификация науки, как правило, происходит из идеи, что ученые способны делать «предсказания». Они работают внутри лабораторий, и, несомненно, снаружи происходит нечто, что подтверждает их предсказания. Проблема заключается в том, что никому еще не удавалось подтвердить эти предсказания без заранее проведенного распространения условий верификации, существовавших в лаборатории. Вакцина имеет воздействие только при условии, что фермы превращаются в пристройку лаборатории Пастера, и что для подтверждения воздействия вакцины используется та же система статистики, с помощью которой изначально было определено наличие заболевания. Мы можем наблюдать распространение лабораторных условий и многочисленное повторение последнего успешного лабораторного эксперимента, но мы не можем наблюдать предсказания ученых вне стен лаборатории (Latour and Woolgar, 1979: ch. 4).