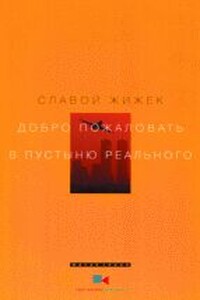Возвышенный объект идеологии | страница 31
Не принимая во внимание этого внешнего, объективного измерения веры, мы можем оказаться, как в известном анекдоте, в положении сумасшедшего, считавшего себя пшеничным зерном. Пробыв некоторое время в психиатрической больнице, он излечился и знал, что он человек, а не зерно. Его выписали - однако скоро он примчался назад и выпалил: «Я встретил курицу и испугался, что она меня съест». Когда доктора попытались успокоить его: мол, нечего бояться, раз теперь ему известно, что он не зерно, помешанный возразил: «Я-то знаю это, а вот знает ли это курица?»
«Закон есть закон»
Вывод, который можно извлечь из проведенного анализа социального поля, состоит прежде всего в том, что вера - это вовсе не «сокровенное», психологическое образование, вера всегда материализована в нашей реальной социальной деятельности: она поддерживает фантазм, регулирующий социальную действительность. Здесь стоит вспомнить Франца Кафку: обычно считают, что в мире своих «иррациональных» романов Кафка дал «утрированное», «фантастическое», «предельно субъективное» описание современной ему бюрократии и участи человека, оказавшегося во власти этой бюрократии. Утверждая так, упускают из виду то решающее обстоятельство, что фантазм, упорядочивающий либидозное функционирование самой «реальной», «действительной» бюрократии, - этот фантазм артикулируется именно «утрированием».