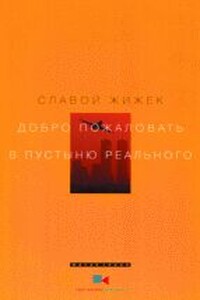Возвышенный объект идеологии | страница 29
С этой точки зрения можно согласиться с формулировкой, предлагаемой Слотердайком: «Они отлично сознают, что делают, но тем не менее продолжают делать это». Если бы иллюзия относилась к сфере «знания», то циническая позиция действительно была бы позицией постидеологической, просто позицией без иллюзий: «Они сознают, что делают, и делают это». Но если иллюзия содержится в реальности самого действия, то эта формулировка может звучать совсем иначе/ «Они сознают, что в своей деятельности следуют иллюзии, но все равно делают это». Например, они сознают, что их идея свободы скрывает особую форму эксплуатации, но продолжают следовать этой идее.
Объективность веры
Обратимся еще раз к марксистскому определению товарного фетишизма: в обществе, где продукты человеческого труда принимают форму товаров, отношения самих людей принимают форму отношений между вещами, между товарами - вместо отношений между людьми перед нами оказываются общественные отношения между вещами. В 60 - 70-х годах эта позиция была серьезно подорвана теорией антигуманизма Альтюссера. Принципиальное возражение сторонников Альтюссера состояло в том, что марксистская теория товарного фетишизма основана на наивном, идеологическом, эпистемологически не обоснованном противопоставлении личности (человеческого субъекта) и вещи. Но, посмотрев на эту формулировку с точки зрения теории Лакана, мы можем придать ей новый, неожиданный поворот: ниспровергающая сила марксистского подхода заключена именно в том, как он использует противопоставление людей и вещей.
При феодализме отношения людей, как мы видели, мистифицируются, опосредуются паутиной религиозных верований и предрассудков. Они представляют собой отношения господина и раба, в рамках которых господин опирается на свое харизматическое обаяние и пр. При капитализме же субъекты эмансипируются, полагают себя свободными от средневековых религиозных верований; взаимодействуя друг с другом, они ведут себя как рациональные утилитаристы, руководствующиеся исключительно эгоистическими, интересами. Однако суть Марксова анализа состоит в том, что вместо субъектов начинают верить сами вещи (товары)-, как если бы все верования, предрассудки, метафизические спекуляции индивидов - предположительно преодоленные рациональным утилитаризмом - оказались воплощенными в «общественных отношениях между вещами». Субъекты больше не верят, но за них верят сами вещи.
Под этим выводом вполне мог бы подписаться и Лакан, одним из основных тезисов которого был тезис, оспаривающий обычное представление о вере как о чем-то внутреннем, а о знании - как о чем-то внешнем (в том смысле, что его верификация осуществляется в некой внешней процедуре). Скорее именно вера - это нечто предельно внешнее, востребую-щее практическую, конкретную активность человека. Она сходна с тибетскими молитвенными барабанами: вы пишете молитву на бумажке, кладете ее в барабан и проворачиваете его - бездумно и механически (либо, прибегнув к гегелевской «хитрости разума», прикрепляете ее к ветряной мельнице, чтобы за вас ее крутил ветер). Таким образом, сам барабан молится за меня, вместо меня - или, точнее, я молюсь посредством барабана. Прелесть ситуации заключена в том, что «внутри» я могу думать о чем заблагорассудится, предаваться самым грязным и непристойным фантазиям, но, несмотря ни на что (вспомним известное выражение Сталина), что бы я ни думал, -