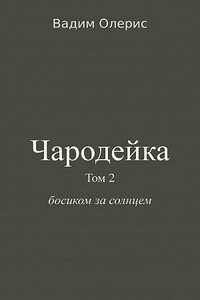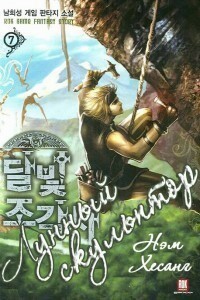Новая правда ротмистра Иванова | страница 7
– Мало, Цуркану, мало, – сухо произнёс жандарм. – Видишь ли, нам нужны сведения. Так или иначе, мы их получим. Врать бесполезно. Противление следствию – это серьёзная статья: пять лет каторги. Понимаешь меня? – мужчина уставился прямо в глаза Матвею, и тот вжался в стул, желая сейчас только одного: уползти отсюда куда подальше и спрятаться.
– Понимаю, – кое-как выдавил Матвей, взгляд жандарма парализовал настолько, что даже говорить было сложно.
– Хорошо, – по слогам произнёс жандарм, постукивая по столу ручкой. – Тогда давай повторим сначала.
Беседа продолжилась. Как и предполагалось, вопросы прозвучали по кругу три раза. Матвей вспотел, глотка пересохла, став колючей и жёсткой, как железная стружка. Твердил только одно: «не знаю, не помню». Остальные слова будто забыл.
Думал уж, что несдобровать, что и его загребут, как предыдущего. Но пытка закончилась.
–Хорошо, свободен, – наконец, произнёс жандарм, не гладя на допрашиваемого. Затем выудил из кипы папок очередное «дело», открыл его и погрузился в изучение.
Только когда Матвей снова оказался на улице, его отпустило. Радость переполняла сердце: опасность обошла стороной, он был свободен. И в то же время глодала досада: Матвей злился на себя, злился за то, что душа уходила в пятки и руки тряслись, злился за постыдный страх перед представителем власти. Матвей ненавидел жандармов – этих сволочей с их безжалостными допросами, с пронзительными взглядами и надменным обращением. Он ненавидел власть, которая преследовала его лишь за неудачное родство. И в то же время лебезил перед ними, как лакей, и боялся, как пёс боится клетки живодёра. А он не лакей и не пёс – он рабочий. Так куда же исчезала вся гордость в эти моменты? Тошнотворное послевкусие самоуничижения заставило поморщиться. Матвей сплюнул и пошёл обратно в цех.
А над головой между переплетениями труб и жирными пучками линий электропередач серела каша усталого, отравленного неба, через которое тянулись тяжёлые борозды заводского дыма.
Глава 2. Дверь
Сигаретный дым едкой пеленой заполнял лестничную клетку «хрущовки». Павел сидел на холодной ступени. Уже десятая сигарета догорала в его губах обугленным огрызком. Рядом чадила мятая жестяная банка из-под кофе, в которой скопилась гора окурков. В сизом мареве привычным контуром вырисовывалось окно, за окном царил мрак. Вечер задавил улицы глыбой тёмного неба, немым отчаянием.
А на душе – боль, досада, злость. На самого себя, прежде всего, да и на весь мир в придачу. Одинокая слеза скатилась по щеке. Павел не припоминал, когда последний раз случалось плакать – в это мало достойного, но сейчас ему было плевать.