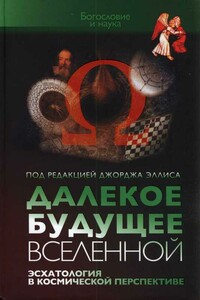Наука и богословие. Введение | страница 78
Вторая сложность с первопричиной в том, что она делает Бога ответственным за все, что происходит, особенно заостряя тем самым проблему теодицеи. Обсуждаемая концепция возникла в традиции, которая хотела говорить о Боге как о Творце, всецело контролирующем творение, но в век Холокоста такая точка зрения может очень дорого обойтись богословию.
Философия процесса
У философии процесса свое представление о роли божественной деятельности. Бог — действительный участник каждого события. Он «снабжает» его данными обо всех прошлых событиях и «соблазняет», увлекая в желательном для себя направлении. Однако результат — то, что произойдет на самом деле, — формируется на следующем этапе — «фазе сращивания». Сила Бога — только сила убеждения. Уайтхед очень против того, что он считает классическим богословским описанием Мирового Тирана. В свою очередь он предлагает собственную концепцию Бога как «сострадающего, Того, Кто понимает», защитника, а не судью в мировом процессе.
О научных затруднениях по поводу соотнесения такого преимущественно событийного описания реальности с тем, что мы знаем о физическом мире, мы уже говорили (глава 3, «Редукционизм и холизм», подраздел Философия процесса). Здесь стоит упомянуть о богословских затруднениях. Может ли философия процесса предоставить настолько веские свидетельства божественной деятельности, чтобы они могли соответствовать теистическим запросам, то есть засвидетельствовать участие прямого божественного провидения в событиях истории? Может ли концепция «Защитника, адвоката реальности» считаться адекватной религиозному опыту молитвы или надежде на то, что в конце концов добро победит зло? Барбур был достаточно честен, чтобы признать, что «процессуальное богословие» не утверждает со всей очевидностью божественную победу над злом. Его надежда скорее опирается на то, что Бог помнит о прошлом, чем на то, что Он трансформирует несовершенное настоящее в совершенное эсхатологическое будущее.
Аналогии с человеческой деятельностью
Поскольку наша собственная деятельность нам хорошо знакома, то естественным было бы попробовать провести параллель между человеческой деятельностью и божественной. По этому поводу возникают две сложности. Во–первых, не понятно в целом, до каких пределов возможно применять конечный человеческий опыт, говоря о божественной бесконечности. Во–вторых, несмотря на то, что у нас есть непосредственный опыт нашей способности действовать, мы не знаем, каким образом это происходит. У нас нет — по крайней мере хоть сколько–нибудь общепринятого — понимания характера причинной связи, согласно которой осуществляются человеческие действия (глава 3). Таким образом, аналогии, проводимые в этом разделе, будут попыткой понять Неизвестность через неизвестное.