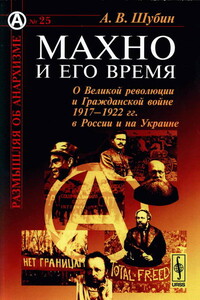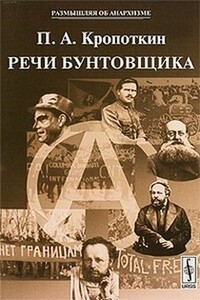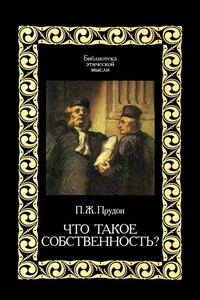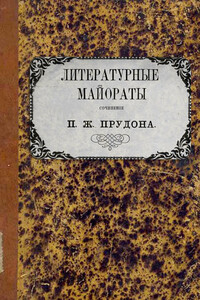Политические противоречия | страница 29
Вмѣсто того, чтобы начать нашъ списокъ съ конституціи 1804 года, бывшей самымъ полнымъ выраженіемъ аутократіи во Франціи съ 1789 года, мы точно также могли бы начать его съ конституціи 1814 г. или со всякой другой, ставя затѣмъ тѣ конституціи, которыя наиболѣе подходятъ къ предъидущей:
Конституція 1814 г. доктринёрная, представляющая золотую средину.
Конституція 1830 г. склоняющаяся къ демократіи.
Конституція 1791 г. монархическая субординація.
Конституція 1795 г. съ республиканскимъ перевѣсомъ.
Конституція 1848 г. такая же съ одною палатою.
Конституція 1793 г. подчиненіе буржуазіи народу.
Конституція 1804 г. чисто аутократическая и наслѣдственная.
Конституція 1802 г. пожизненная диктатура.
Конституція 7 ноября 1842 г. умѣренная аутократія.
Конституція 14 января 1852 г. десятилѣтняя диктатура.
Конституція 1799 г. тріумвиратъ на 10 лѣтъ.
Конституція 24 ноября 1860 г. императорская, съ парламентарными тенденціями.
Конституція 1789 г. конституціонная монархія — съ дворянскими традиціями.
Конституція 1815 г. императорская и quasi-парламентарная.
Примѣчанія:
А) Рядъ конституцій, который мы представили, слѣдуя нашей исторіи и сравненію различныхъ лежащихъ въ нихъ принциповъ, составляетъ то, что я называю конституціоннымъ цикломъ, или кругомъ, въ которомъ всякому обществу суждено вращаться до тѣхъ поръ, пока оно не пріобрѣтетъ окончательной организаціи. Этотъ циклъ есть результатъ того перевѣса, который послѣдовательно достается каждому изъ соціальныхъ элементовъ; онъ болѣе или менѣе обрисовывается въ исторіи всѣхъ народовъ.
Съ помощію этого круга мы можемъ уяснить себѣ истину, выражающуюся въ извѣстной пословицѣ les extrêmes se touchent (крайности сходятся), которая однако скрываетъ въ себѣ что-то таинственное для ума.
Если представить себѣ этотъ рядъ конституцій изображеннымъ въ формѣ радіусовъ круга, то легко будетъ убѣдиться, что крайности аутократіи и демократіи настолько же близки другъ къ другу, какъ и среднія системы парламентаризма. А такъ какъ теорія всегда имѣетъ свое примѣненіе на практикѣ, то мы и находимъ здѣсь объясненіе явленія давно замѣченнаго, но очень мало или вовсе не выясненнаго и заключающагося въ томъ, что въ тѣхъ государствахъ, которыя подверглись конституціонному движенію, весьма часто оказывается, что правительства, дойдя до демократическихъ крайностей, вмѣсто того, чтобы путемъ правильнаго вращенія обратиться къ разумной срединѣ, дѣлали рѣзкій поворотъ къ аутократіи или къ абсолютной власти. Ничто въ теоріи такъ не противорѣчитъ другъ другу, какъ аутократія и демократія, отдѣляющіяся одна отъ другой множествомъ смѣшанныхъ правительственныхъ системъ, но въ тоже время ничто такъ близко не соприкасается, какъ эти двѣ формы. Такъ что, если движущая сила, или руководящая страсть, направляющія государство то къ принципамъ демократіи, то къ полнѣйшему абсолютизму, не задержитъ власти въ тотъ моментъ, когда она приближается уже къ достиженію какого либо изъ этихъ предѣловъ, то власть эта какъ бы перескакиваетъ идеальный интервалъ, раздѣляющій эти два предѣла, и становится на ноги уже совершенно видоизмѣненною. И странно, очень часто замѣчали, что самые рьяные демократы обыкновенно скорѣе всѣхъ мирятся съ деспотизмомъ, и, наоборотъ, защитники абсолютнаго права, въ подобныхъ же случаяхъ, дѣлаются самыми ярыми демагогами: какъ будто душа человѣка въ этомъ отношеніи совершенно сходится съ соціальной метафизикой.