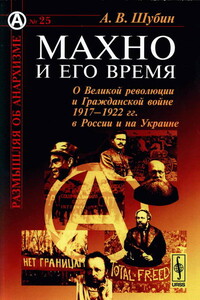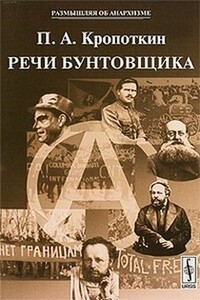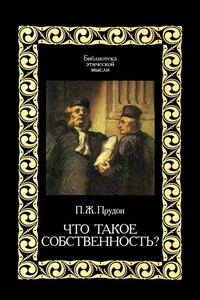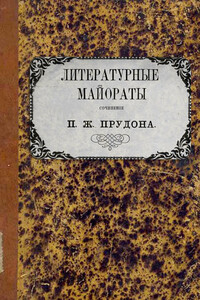Политические противоречия | страница 26
Только одна Англія кажется неподвижною, далекою отъ совершающихся катастрофъ. Это потому, что въ Англіи согласились, во чтобы то ни стало, поддерживать вѣру въ королевскую власть, въ аристократію, въ буржуазію, въ церковь, въ библію, въ великую хартію. Но вѣра эта есть ничто иное какъ замаскированный эмпиризмъ, который умышленно отказывается отъ всякаго строго-логичнаго опредѣленія; называть Англію страною конституціонною — заблужденіе. Въ Англіи существуетъ самопроизводное (factice) общественное мнѣніе, которое диктуетъ каждому государственному дѣятелю что онъ долженъ дѣлать ежедневно, прикрываясь мантіей закона, пригодной для каждаго случая.
Я резюмирую всю настоящую главу въ двухъ словахъ. Девятнадцатый вѣкъ занятъ разработкой своей политической и экономической конституціи. Франція — страна, гдѣ эта работа до настоящаго времени проявлялась съ наибольшей энергіей, хотя впрочемъ явленія эти вездѣ почти одинаковы.
Постараемся раскрыть законъ этого движенія путемъ анализа нашей исторіи.
Глава IV
Общій критическій взглядъ на конституціи
Историческая послѣдовательность и логическая сущность французскихъ конституцій. — Крайности и средства. — Начало конституціоннаго цикла. — Безпрерывныя перемѣны. — Постоянное непостоянство.
Пятнадцать конституцій, о которыхъ мы дали отчетъ въ предыдущей главѣ, поименовавъ ихъ въ хронологическомъ порядкѣ, и прибавленныя къ нимъ съ одной стороны инструкціи, данныя избирателями депутатамъ Генеральныхъ Штатовъ, съ другой — сенатусъ-консульты 1852, 1856 и 1857 годовъ, а также декретъ 24 ноября 1860 года, являясь предвѣстниками новой конституціи, составляютъ въ настоящее время весь ансамбль нашихъ политическихъ эволюцій.
Прежде всего надо однако замѣтить, что тотъ историческій или хронологическій порядокъ, въ которомъ эти конституціи слѣдовали одна за другой и котораго мы придерживались при ихъ разсмотрѣніи, не показываетъ еще ихъ раціональной связи между собой, если только предположить въ нихъ существованіе какой-нибудь связи; и что посему порядокъ этотъ отнюдь не представляетъ намъ теоріи всѣхъ этихъ переворотовъ. Мы видимъ, что послѣ монархической конституціи появляется ультра-демократическая, за этой же слѣдуетъ умѣренно-буржуазная республика, потомъ является военная аутократія, за ней парламентская монархія, потомъ опять демократія, наконецъ — имперія. Но во всемъ этомъ нѣтъ ничего такого, что дало бы намъ возможность подозрѣвать нѣчто общее во всѣхъ этихъ конституціяхъ, которыя представляются столь противорѣчащими одна другой. Въ самомъ дѣлѣ, что соединяетъ ихъ, какою мыслью они проникнуты, зачѣмъ такъ часто смѣняются онѣ одна другой, переходя изъ одной крайности въ другую и обнаруживая общую несостоятельность. Вотъ именно этотъ-то законъ превращеній и слѣдуетъ изучить.