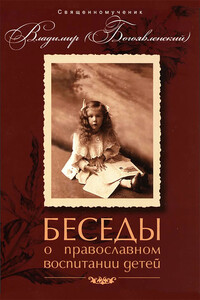Символика Православного Храма | страница 49
Воспитанный в строгом древнем монашеском послушании я аскезе ума инок Андрей Рублев никогда не решился бы навязывать Церкви свою личную фантазию на эту тему. Значит, Господь благоволил показать, открыть ему, духовному ученику Преп. Сергия Радонежского — великого созерцателя Святой Троицы, то, что следовало передать в иконном изображении! Очевидно, что так же рождались и все принятые Церковью издревле канонические композиции.
"Троица" Рублева замечательна ещё в тем, что точно соответствуя иконописному канону, она не производит впечатления чего-то нового, небывалого. Зритель долгов время пребывает в уверенности, что перед ним известная композиция явления Аврааму трех странников, только без изображения Авраама, Сарры и т.п. (так сказать, — Три Ангела, от которых убрано "всё лишнее"...). Эта икона послужила прототипом для таких же икон других русских иконописцев.
Благодатность "Троицы" Рублева и последующих канонических списков с неё столь явна и ощутима даже для современного, нецерковного человека, что не нуждается в подтверждениях.
На примере этой иконы можно видеть и ещё один принципиально важный аспект канонического письма. Икона написана для людей, для их созерцания, но так, что она как бы отрешена от мира человеческого, от здешней чувственной земной жизни. Эта отрешенность — общее правило канона для всех православных икон. Они ни в коем случае не должны воздействовать на поверхностные душевные чувства человека, то есть не должны стараться "умилить", "растрогать", "очаровать", или "поразить" зрителя. Высшая духовная действительность, представленная на иконе, обращена к высшим духовным чувствам человека, а не к его низшим, душевным эмоциям. "Душевный человек, — пишет апостол Павел, — не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем никто судить не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов" (I Кор. 2, 14-16).
В этих словах Писания — ключ к разгадке того, почему современные верующие люди не могут воспринимать древнюю каноническую иконопись, почему она кажется им скучной, примитивной, безжизненной... В подавляющем своем большинстве нынешние православные — это люди душевные, не духовные, Но такому их состоянию, с другой стороны, очень сильно поспособствовали умышленно вводимые в церковный обиход антиканонические изображения в западном "реалистическом" духе, вводимые с конца XVII в. и в течение всего XVIII-ro просто насильственно. При этом, пользуясь доверчивостью простых людей, такие изображения снабжали каноническими надписями, что вводило в заблуждение, обманывало. И началось постепенное массовое выпадение из "ума Христова", своего рода с-умасшествие... В результате теперь в церковной жизни всё больше опираются именно на душевные, поверхностные чувства человека, стремясь их "умилить", "растрогать", "поразить". Так например, Васнецовско — Нестеровские росписи Владимирского собора в Киеве и иные их "иконы" — это не более чем человеческий произвольный вымысел и Божественном и Небесном. Хотя он выполнен художественно замечательно и поражает воображение, он — вопиющая неправда о Горнем мире. Напротив, Рублевские росписи Успенского собора во Владимире, фрески Дионисия и им подобные — это правда о Божественном, хотя они никак не потрясают и не поражают наших эмоций. Поэтому и приходится ныне писать "трактаты", объясняющие глубину духовности канонической церковной символики, чтобы хоть как-то, хоть кого-то побудить "принять то, что от Духа Божия". Впрочем, в подобных опытах есть свой смысл: они показывают, что учение Духа, ума Христова отнюдь не противоречит обычному человеческому душевному рассудку, но может и им быть в какой-то мере понято, уложиться в прокрустово ложе интеллектуальных представлении и внешней рассудочной логики. Хотя в этом случае наш душевный ум может лишь приблизиться к пониманию глубины того, что давно было ведомо и видно уму духовному, но никак не вместить в полной мере этой глубины. Для этого всё же нужно каждому из нас постараться стать "духовным человеком", а не "душевным"...