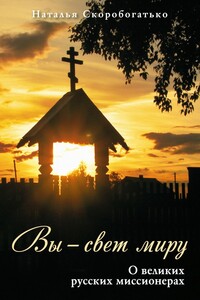Слово на житие прп. Петра Афонского | страница 65
Третья часть текста Николая Монаха, по справедливому замечанию Папахрисанфу, [515] является авторской контаминацией, похожей на попытку отождествить Петра Схолария и прп. Петра Афонского: прп. Петр сопоставляется с неким почитаемым где-то во Фракии (деревня Фокомис или Фотокомис точнее не локализуется) монахом Петром, чьи мощи были куплены местным епископом у каких-то монахов. Заметим от себя, что здесь Николай Монах выходит за рамки достоверности: жителям деревни и епископу неоткуда узнать, что у них мощи прп. Петра Афонского, так как укравшие останки монахи, естественно, умалчивают об их происхождении. По-видимому, Николай Монах просто соотнес известное ему предание из соседней с Афоном местности с ним же составленным сюжетом жития прп. Петра Афонского.
Соединяя воедино три разнородные части, наш автор сшивает их не только сюжетной канвой, но и единством образов: свт. Николай, пришедший из чуда о Петре Схоларии, повторно является во второй части, хотя и не играет никакой роли в сюжете. В третьей части автор намеренно называет (устами беса) своего героя Петром «из схолариев».
После такого анализа литературных приемов Николая Монаха можно было бы с легкость назвать его текст типичной фикцией жизнеописания легендарного святого с неизвестной биографией — каким прп. Петр, несомненно, являлся для Афона X в. Однако не стоит называть наше Житие бессовестной выдумкой. Автор сам отлично понимает недостаточность материала, находящегося в его руках. И в этой ситуации он не пытается заполнить эти лакуны для достоверности мнимыми реалиями или вписать события в исторический контекст, что было возможно. В самой бедной фактами центральной, «афонской» части повествования Николай Монах помещает центр тяжести именно на аскетический подвиг своего героя. Очевидно, что он создает не биографию святогорского «первопоселенца» — на Афоне в это время подвизалось немало монахов (VI.2), — но скорее идеальный образ анахорета, противопоставляемый большим общежительным монастырям X в. (VI.3), чуждым истинной исихии.
Именно поэтому к тексту афонита Николая и обращается через четыре века свт. Григорий Палама. Забвение прп. Петра для него — это одновременно и угасание на Афоне вышеописанной традиции. [516]