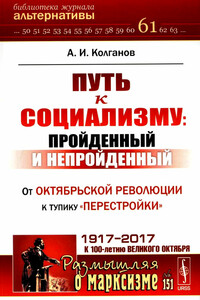Идеалистическая диалектика Гегеля и материалистическая диалектика Маркса | страница 31
Но Гегель придает своей аргументации другой оборот. Мы видели в предыдущем изложении, что в развиваемых им элементах теории знания Гегель походит из чувственного опыта. Познающему субъекту непосредственно дано чувственное восприятие. Непосредственно мы воспринимаем вещи: дерево, дом и т. д. Гегель почему-то подчеркивает при анализе этого восприятия моменты места и времени. Момент времени я фиксация данного места сливаются для него в конечном счете, как это мы видели выше, в «общее», теряя свою определенность. Момент теперь, момент здесь остаются в нашем сознании, но остаются как «общее», относящееся ко всякому «теперь» и ко всем «здесь». Точно так же воспринимающее «я» есть общее, потому что, утверждая понятие «я», я этим самым утверждаю, что оно «общее». Отсюда делается Гегелем вывод, что чувственная достоверность в процессе! познания отрицается и что это отрицание приводит к истинной достоверности, которая есть «общее», т. е. к мышлению и к понятию.
Истинной и подлинной реальностью оказывается понятие Это положение опять-таки с виду кажется неопровержимым но очень хорошо опровергается самим Гегелем, одним и мно-гими его примерами, которые приводятся в подтверждение этой основной его мысли. Пока мы приведем один из них. «Я бы, — говорит Гегель, — ничего не знал о собаке, что она такое, если бы у меня не было понятия животного». Прежде всего является вопрос, что означает знание собаки? Нам думается, что знание собаки обусловливается ее действием на наши органы восприятия, всеми ее чувственными качествами и тем особенно выдающимся свойством, которое нас иаибольше задевает в этом животном. Большинство человечества и до нас и в наше время не имеет ни малейшего представления о животном «вообще» в смысле общего понятия и том не менее знают, что такое собака. Но Гегель, во-первых, может возразить, что такое незнание не есть подлинное незнание, и во-вторых, что такое знание не есть подлинное знание. Ибо, с одной стороны, поскольку собака известна, то все же в основании лежит, хотя бы бессознательно, понятие о животном; с другой стороны, полнота познания собаки обусловливается познанием её сущности, т. е. постижением общего понятия. В действительности все люди имеют эго понятие, только оно часто но осознано. Но кай эго доказать? Из этиологии, например, достоверно известно, что целые племена (так называемые первобытные, которые фактически вовсе не первобытны) представляют собой продукт значительного отрезка культурного развития, но лишены того, что философ называет понятием. Например, первобытное охотничье племя дамарассы узнают свое стадо по отдельным качествам всякого отдельного животного; счет их доходит только до трех. Впрочем, незачем итти так далеко, к сознанию первобытных племен; достаточно внимательно, не с абстрактных философских высот, а конкретно, взглянуть на культурное человечество.