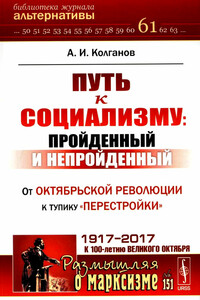Идеалистическая диалектика Гегеля и материалистическая диалектика Маркса | страница 22
Ясно из этих строк, как и из всего построения, что понятия, по Гегелю, представляют собой подлинную конкретную сущность рода и вида. Они являются движущими силами. Процесс их движения развивается диалектически, как это иллюстрирует Гегель в «Феноменологии духа» на примере почки, цветка и плода. Цветок отрицает почку, а плод есть отрицание цветка и тем самым отрицание отрицания. Но понятие обладает тем же значением не только в природе, но естественно также а в области субъективного духа. Так например, Гегель, как уже упомянуто, часто ссылаясь на язык и на всю традицию человеческого мышления, говорит, что для создания того или другого законодательства исходным положением служит понятие государства.
Понятие государства, следовательно, представляет собой сущность государства. Или же другой пример: Гегель подвергает критике принцип взаимодействия, иллюстрируя свою критику рассуждениями исторического порядка. Государственное устройство Рима, говорит он, обусловливалось нравами римлян, и, наоборот, нравы в Риме определялись государственным устройством. Нетрудно видеть, что такого рода объяснение вращается в заколдованном кругу, что по существу остаются без объяснения как нравы, так и государственное устройство. По-настоящему объяснить это взаимодействие возможно лишь тогда, когда оно будет сведено к понятию. Но тут же заметим, что Гегель не указывает, в какому именно понятию следует свести это взаимодействие, и мысль свою на этом обрывает.
Приведем еще пример.
На основании своего учения о понятии Гегель защищает против Канта онтологическою доказательство бытия бога. Создатель онтологического доказательства Ансельм Кентерберийский, с точки зрения Гегеля, более прав, нежели Кант, подвергший критике это доказательство[4-10].
Мы видим, таким образом, что понятия всякого рода из всех областей являются но существу, своему субстанциями, но субстанциями не замкнутыми, но застывшими, не отдельными друг от друга, а движущимися и представляющими собой формы развития мирового разума.
По существу гегелевские понятия являются возрождением платоно-аристотолевской метафизики. На связь ого системы с системами обоих этих мыслителей указывается там и тут самим Гегелем. Характеризуя процесс развития в органическом мире и указывая, что процесс этот есть по существу развитие понятий, Гегель берет под свою защиту платоновские идеи. Как известно, по Платону, наше познание эмпирического мира есть воспоминание души, созерцавшей когда-то, до рождения, истину. По этому поводу Гегель замечает, что нелепо было бы толковать «анамнезис» в том смысле, что школьник, усваивающий ту или другую истину, вспоминает её как воспринятую до своего рождения. Не это имел в виду Платон. Воспоминания нужно понимать так, что в вашем духе заложены возможности познания, которое сводится к понятию, ибo всякая вещь познается нами именно потому, что мы ее подводим под существующее в нашем духе понятие. Но гегелевское понятие отличается, однако, от платоновских идей тем, что у Платона идеи трансцендентны, т. е. стоят над эмпирической действительностью; у Гегеля же понятия имманентны и существуют неразрывно от эмпирики. Более того, действительность есть их явление, продукт их целевой деятельности, наподобие энтелехии у Аристотеля, к которому Гегель относится с большим уважением, не за реалистические мотивы этого великого мыслителя, а за его метафизику, за что, кстати сказать, Гегелю достается от Ленина (XII сборник).