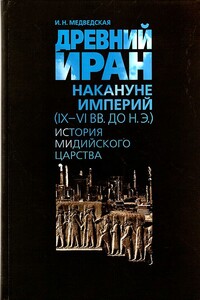Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века (По материалам Московской епархии) | страница 58
1 [242]
Отсутствуют участники по первым двум разрядам. С 3-го по 7-й – всего лишь по одному или два человека. 70 из 79–88 % (!) лиц, пользовавшихся средствами эмеритуры, получали выплаты по низшему 8-му разряду, размеры их годовых пенсий не превышали 14 руб. Ясно, что прожить на эти деньги не представлялось возможным. Опять возникает вопрос: почему значительное большинство участников эмеритальной кассы по-прежнему выбирало пенсионный план с таким низким уровнем выплат после выхода за штат? Или они все оказывались настолько бедны, что, находясь на грани материального выживания, были совершенно не способны делать сколько-нибудь значительные инвестиции в обеспечение будущей финансовой безопасности для себя и своих семейств, или же не хотели вкладываться в кассу учреждения, участие в котором им было навязано сверху и смысла деятельности которого они так и не уяснили, надеясь обеспечить доход в преклонном возрасте каким-нибудь другим способом? Остается предположить, что отчасти верны обе версии, имела место и некоторая социально-психологическая причина.
Дело в том, что клирики и церковнослужители в Русской Православной Церкви имели основной доход не из штатных окладов или каких-либо иных постоянных и фиксированных поступлений, а из источников достаточно нерегулярных и в известной степени случайных (требы и проч.). Такой способ заработка психологически не способствовал развитию дисциплины в области учета и контроля личных (или семейных) денежных средств и их дальнейшего инвестирования. Следует также учитывать, что значительная часть этих доходов могла поступать даже и вовсе не в денежном, а в продовольственном или ином натуральном эквиваленте, что затрудняло перспективу их дальнейшего вкладывания. Помимо этого, священнослужителям было запрещено заниматься ростовщичеством, они не имели ни права, ни возможности (особенно если говорить о тружениках сельских приходов) заниматься приносящими доход операциями с недвижимостью и торговлей. К тому же у священнослужителей, при широком круге их как церковных, так и государственных обязанностей, не хватало времени и сил на повышение уровня своей финансовой грамотности. Вся эта ситуация приводила совокупно к тому, что клирики и причетники, будучи совершенно загруженными своими обязанностями и зачастую не имея сколько-нибудь достойных средств к безбедному и довольному существованию, были к тому же почти начисто лишены знаний и представлений о капиталовложениях, ценных бумагах и т. п. Им не была присуща способность к нормальному финансовому планированию, к генерации денежных потоков и контролю над ними, в том числе и к пониманию необходимости серьезных инвестиций для своего пенсионного обеспечения. Поэтому они оказались не подготовленными к нормальному и адекватному восприятию возможности воспользоваться механизмом эмеритуры. Ко всему прочему, священнослужители не стремились выйти за штат по достижении 60-летнего возраста, поскольку, покидая приход, они, как правило, должны были лишиться не только дохода и службы, но и дома, в котором жили. Поэтому среди пенсионеров кассы меньше священнослужителей, чем их вдов и детей-сирот.