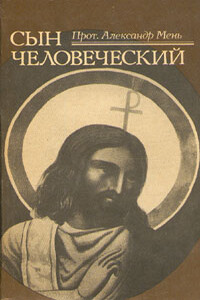Православие и русская литература в 6 частях. Часть 3 (II том) | страница 61
«Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7, 10).
Самопознающий — познаёт и тот хаос, что «шевелится» (Тютчев) на дне всякой души. И он сразу отпугнёт того, в ком нет веры обретения в себе Царствия Божия, которое внутрь нас есть (Лк. 17, 21). А иного смысла, помимо искания Царствия, не может быть в самопознании (остальное лишь обман). Без такого искания оно превратится в праздное, отчасти душевно-мазохистское — самоистязание.
Всякое страдание душевное вызывает в человеке сознательное или бессознательное размышление о возможности (или невозможности) достижения счастья. Вот потаённый сюжет в романе «Накануне», никак не связанный с общественно-политическими борениями в предреформенной России. В поступках, размышлениях, высказываниях героев постепенно совершается развитие авторской мысли о счастье. Уже в первой сцене романа, в разговоре Шубина и Берсенева, звучит это слово — счастье. И так обозначается подлинная проблема всего произведения:
«— Жажда любви, жажда счастья, больше ничего! — подхватил Шубин. — …Счастья! счастья! пока жизнь не прошла… Мы завоюем себе счастие!..Берсенев поднял на него глаза.
— Будто нет ничего выше счастья? — проговорил он тихо. — …Каждый из нас желает для себя счастья… Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее это слово?» (3, 13–14).
Недаром же заданы эти вопросы в самом начале романа — они требуют ответа. Тургенев задевает самый больной нерв эвдемонической культуры: сопрягает понятие счастья с эгоистической разобщённостью людей.
Далее как будто бы каждый из основных героев находит для себя своё счастье. Шубин — в искусстве, Берсенев — в занятиях наукой: «Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок, в своей тёмной мастерской! А солнце пусть другим сияет! И в нашей глухой жизни есть своя гордость и своё счастие!» (3, 123) — утешает он себя. Но не самообман ли, не самоутешение ли — это их счастье? Сам автор, пожалуй, готов склониться к такой мысли, но не Шубин с Берсеневым занимают его прежде всего. Решение проблемы — в судьбе главных героев. «Как же это можно быть довольным и счастливым, когда твои земляки страдают?»— задаётся вопросом Инсаров, и Елена готова согласиться с ним. Следовательно, для главных героев счастье должно быть основано на счастии других. Счастье и долг, таким образом, совпадают. И оно как будто вовсе не то разъединяющее счастье, о котором говорит в начале романа Берсенев. Но затем оказывается, что даже это — альтруистическое! — счастье греховно. Окружающий мир — космос— враждебен человеку. Это с жестокой отчётливостью сознала Елена незадолго перед смертью Инсарова. За земное — какое бы оно ни было — счастье человек должен нести наказание. В романе «Накануне» это наказание — смерть Инсарова.