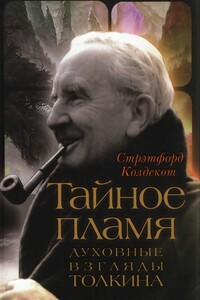Православие и русская литература в 6 частях. Часть 3 (II том) | страница 22
Тургенев возненавидел деспотию, но — связал её с конкретной внешней формою и перенёс ненависть на эту форму. Борьба с крепостничеством — бессмысленна, если в отмене его видеть единственную цель. А деспотия непременно проявит себя и в иных условиях — политических, социальных, каких угодно, — изощрённо приспособившись ко всем внешним изменениям: лишь сменив прежнюю определённость обманчивых очертаний на новую определённость нового обмана. Председатель колхоза при социализме сумеет стать худшим деспотом, нежели помещик при крепостном праве. Бороться необходимо с внутренней греховной основой того, что так ненавистно для многих в своём внешнем проявлении. Однако борцы с крепостничеством, как и вообще любые революционеры, не умели заглянуть в суть вещей — для этого необходим религиозный взгляд на мир, — они не в состоянии были выйти из общих мест, давно навязанных обыденному сознанию непрошибаемой самоуверенностью скользящего по поверхности атеистического рассудка. Все они ждали спасения именно от рассудка — не один Тургенев — и, кроме необходимых внешних изменений, не требовали ничего иного. В «Дневнике писателя» Достоевский вспоминал, как Белинский убеждённо проповедовал: «…нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел…»>28 Всё то же, давным-давно знакомое: рабство у внешних обстоятельств, отрицание личной вины человека, отрицание самого греха, внутренней ответственности человека, скрытое отрицание смирения — в отвержении «подставных ланит» (ср. Мф. 5, 39). Заурядная заштампованность революционной мысли.
Но сострадание-то народу было у большинства этих людей — как и у Тургенева — искренним и истинным, и оно придавало убеждённости борцов неодолимую силу. Трагическое противоречие, столь распространённое среди этих благородных по внутренним стремлениям людей. Не различая в своём собственном мировоззрении революционного стереотипа, Тургенев прозорливо разглядел у других шаблон крепостнического мышления. В «Записках охотника» он осмелился опровергнуть то, чем бессознательно пользовалась большая часть русского дворянства (и что совсем недавно он безуспешно пытался оспорить в столкновениях с матерью). Этот шаблон предельно просто выразил один из тургеневских персонажей: «По-моему: коли барин — так барин, а коли мужик — так мужик… Вот что» (1, 250). По сути, в одной этой фразе вся помещичья идеология. А то, что и барина и мужика можно назвать единым словом: человек, — этого даже умная Варвара Петровна уразуметь не смогла. Поколения русских людей — и бар и мужиков — были воспитаны на мысли о бесспорном врождённом превосходстве дворянства над крестьянским народом. Разубедить их в этом — представлялось делом необычайно сложным. Разумеется, Тургенев не первый и не единственный, кто сознал ложность крепостнической идеологии. Никакой америки он, в сущности, не открыл. Но иные идеи можно развивать сколь угодно долго, а они так и останутся для большинства отвлечёнными теориями, пока не получат убедительного подтверждения наблюдениями над жизнью.