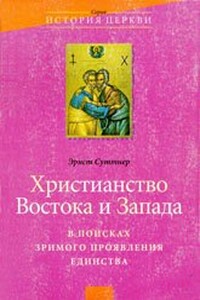Православие и русская литература в 6 частях. Часть 3 (II том) | страница 19
В приведённом суждении много любопытного. Несомненно, Тургенев воспринимает Красоту (и мыслит её с большой буквы, как бы обожествляет) как проявление чисто земного бытия, сотворяя себе из неё в этом бытии кумира. Земная же красота двойственна по природе — не устанем этого повторять. Поэтому обожествление красоты лишь усугубляет любые внутренние противоречия: там, где земная красота не мыслится отражением Красоты Небесной, — там она может служить безблагодатному соблазну. Впрочем, Благодать он незадолго перед тем как бы и отверг, предпочтя ей рассудок, — логично поэтому и сопряжение им своего кумира с разумом: красота самоутверждающейся индивидуальности обращена, по его словам, именно к разуму. Но ведь красота, даже и земная, действует скорее вне рассудка, затрагивая иррациональное, хоть и не самообособленное вовсе, эстетическое чувство, потребность души. Как видим, самоутверждающаяся индивидуальность, апеллирующая лишь к разуму, оказывается и в этом отношении ущербной.
У людей заурядных «оригинальность» так и остаётся на уровне чисто внешних проявлений. Тургенев же вырабатывал свою индивидуальность, пытаясь отстоять прежде всего внутреннюю независимость, хотя и внешним увлекался также. «Тургенев защищал своё право стоять особняком от господствующих течений в обществе, не подчиняясь деспотизму принятых условий существования ни в каком их виде, и оградить себя от разного вмешательства посторонней силы в дела своей души…»>20— писал Анненков. Если бы этого не было, то и ничего бы не было. Вернее, Тургенев смог бы сделаться лишь средним, весьма заурядным литератором, способным добросовестно повторять чужие идеи, подчиняясь господствующим шаблонам мышления. Но: слишком пристальное внимание к внешнему, хоть и недолгим временем ограниченное, всегда действует в ущерб истинному, внутреннему в человеке. Всё-таки и Тургенев до конца не смог отстоять полную нешаблонность собственного мировоззрения. Располагаться «особняком от господствующих течений в обществе»— как мог быть способен к тому убеждённый западник? Оттого и сомнения его не оставляли. Всё осложнялось вдобавок тем, что Белинский начал охладевать к нему как к писателю, художнику. Основных причин было две. Во-первых, Белинский с самого начала увлекся своей мечтой: Тургенев должен занять место Пушкина в русской поэзии. Тургенев же надежд не оправдал: стихи писал неплохие, но отнюдь не гениальные. В прозе также не преуспел на начальных порах. Во-вторых, одержимый идеей борьбы с николаевским деспотизмом и крепостничеством, неистовый критик стремился обрести в писателях прежде всего идейных союзников. Всё, что выходило за рамки этой борьбы, он подвергал отрицанию, а порою и сокрушительной критике. В лучшем случае оставался равнодушным. А что создал тогда Тургенев? В 40-е годы выходят повести: «Андрей Колосов», «Бреттёр», «Три портрета», «Жид», «Петушков». Материала для обличений социально-политического устройства они могут дать весьма немного. И Белинский равнодушнеет к творчеству Тургенева. У него появился тогда новый кумир — Достоевский, который выступил в 1846 году со своим первым романом «Бедные люди» (правда, некоторое время спустя Белинский разочаровался и в авторе «Двойника»— и по той же причине). Тургенев воспринимал охлаждение Белинского болезненно. Внешне это, пожалуй, никак не проявилось. Но не на пустом же месте возникло намерение оставить литературу. Он и сам признавался через тридцать лет: «… уезжая в конце 1846 года за границу, решился было совсем прекратить и изменить свою деятельность» (11, 419). Лишиться поддержки такого авторитета, как Белинский, для начинающего писателя — не шутка. Лишь появление в журнале «Современник» первых рассказов будущего цикла «Записки охотника» вернуло Тургеневу расположение критика.