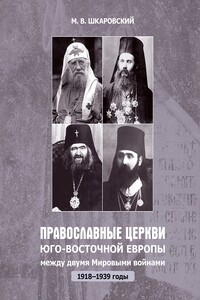Православие и русская литература в 6 частях. Часть 3 (II том) | страница 130
Бесспорно: аскетизм революционера осуществляется не ради сокровищ на небе, но исключительно ради земных благ. Собственно, революция — как бы возвышенно ни мыслилась она своими приверженцами — всегда направлена к земному, чувственному, материальному. Само упоение революционной борьбой — наслаждение, доступное аскету-революционеру, — блаженство, воспетое многими поэтами, есть также земное сокровище, своего рода проявление утонченного душевного гедонизма, понятного, быть может, немногим, но вожделенного для особенных людей. Ленин несомненно распознал его влекущую прелесть. Зерно этого соблазна упало в хорошо перепаханную почву.
Ленин говорил (и к его словам должно прислушаться): «Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, ещё более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться её осуществления. Перед этой заслугой меркнут все его ошибки, к тому же виноват в них не столько он, сколько неразвитость общественных отношений его времени»>158. В этих словах вождя большевицкой революции проясняется, в чём состоит привлекательность взглядов автора «Что делать?»: и в соблазне гордыни (указание на единственный критерий, по какому определяется «думающий» и «порядочный» человек, — а кому ж не хочется считать себя думающим и порядочным, так что как бы и выхода иного нет, кроме революционной работы), и в строгой чёткости программы действий.
Ленин, правда, не раскрыл то, что определённо зашифровано в тексте романа и что он в самом юном возрасте разгадал без всяких шифров (а это как тест своего рода на особенность: догадался — достоин особой отлички): революция создаёт возможность власти, и это земное сокровище может быть вожделеннее всех материальных благ — недаром же деспоты в подавляющем большинстве вели аскетический образ жизни, хотя бы внешне. Революция предоставляет случай для самореализации индивида в мире всеобщего— к чему так стремились и чего так и не достигли рефлектирующие тургеневские герои. Размышлять не надо было — может быть, и это понимал Чернышевский, сочиняя своё руководство к действию, зашифрованное под видом романа?
Революция позволяет человеку самоутвердиться — и тем творит иллюзию осмысленности бытия. Страсть любоначалия может осуществляться в революции и неявно, вне видимого обладания властью — в скрытом упоении от сознания: тысячи людей движимы той идеей, которую ты выстрадал в себе и вложил в их головы. Вот — «змея сокрытая», о которой писал когда-то Пушкин. В революции её совершители, могут ощутить себя даже не сверх-человеками, а сверх-апостолами, «солью соли земли». Эти-то люди, не очистившие истинно души своим мнимым аскетизмом, но возомнившие себя некими высшими сущностями, — они-то всю свою похоть любоначалия сжимают до вопроса: что делать?