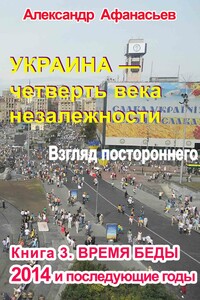Путь к Брехту | страница 24
Конечно, пример с Гитлером - только самая крайняя точка на прямой брехтовской критики техники вживания. Но нам очень важно не потерять ее из виду, так как иначе мы не поймем до конца причины, по которым Брехт был так подозрителен к сценической иллюзии, к той технике исполнения, при которой вжившийся в, роль актер идентифицируется с созданным им образом и властно втягивает зрителя в водоворот своих сценических эмоций. Именно фашизм, доведший до таких разрушительных выводов ницшевскую апологию "царственного инстинкта" и надморальной чувственности, и побудил Брехта, как он сам не раз пояснял, "к особенно резкому подчеркиванию рационального начала".
Разве не в том, чтобы, вырвав зрителя из нирваны расслабляющего созерцания, вынудить его анализировать, проверять, спорить, искать правильных решений и, отбрасывая иллюзии, срывая маски, прорываясь через минные поля опасных банальностей, заставить его пробираться к правде, - и состояла главная цель театра, о котором мечтал Брехт? Недаром он говорил, что его театр должен быть театром "для людей, решивших взять свою судьбу в собственные руки" (II, 474). Немецкая социалистическая революция, на пути к которой стояли кризисы и хаос Веймарской республики, кровь и грязь фашизма, пожар второй мировой войны, нуждалась в художниках, обладающих не только ярким революционным порывом, но и смелой, ясной мыслью, волей к беспощадному анализу, величайшей трезвостью, уверенной ясностью.
Таким художником и стал Брехт. В "Малом органоне" он писал: "При виде лживого изображения общественной жизни на театральных подмостках... мы поднимали голос, требуя научной точности изображения, а наблюдая безвкусные упражнения гурманов, готовящих "лакомства для глаз и души", мы во весь голос требовали той красоты, которая присуща логике таблицы умножения" (II, 174-175).
Так "возникло стремление создать театр эпохи науки" (II, 175), в котором собрались бы политические единомышленники, одинаково осознавшие, что "одних благородных убеждений недостаточно - нужно еще приобрести знания и овладеть определенным методом" (I, 169). И в этом театре борющегося и побеждающего разума, где все, по выражению одного немецкого интерпретатора Брехта, было "насквозь рационализировано" ("durchrationalisiert"), меньше всего было как раз холодной и размеренной рассудочности, сухости. Истинное своеобразие Брехта ведь в том и состоит, что, доведя до последнего заострения свою программу аналитического театра, он и в "Мамаше Кураж", и в "Добром человеке из Сычуани", и в "Кавказском меловом круге", и в "Жизни Галилея" был _поэтом_, чья отточенная до ясного блеска мысль облекалась в одежды щедрой и чувственно насыщенной фантазии. Поэтическое великолепие образов, в которых предстают обычно его режиссерские и драматургические идеи, так покоряюще неистощимо, что если сам Брехт и полагал, что его театр "с презрением отверг культ прекрасного, который подразумевал неприязнь к учению и пренебрежение пользой" (II, 175), то мы со своей стороны можем сказать, что его пьесы и спектакли, во всяком случае лучшие из них, построены всегда и _по законам красоты_ и дают и нашему юмору, и нашей жажде чувственной конкретности изображения, и нашему воображению пищу не менее богатую, чем нашей анализирующей мысли.