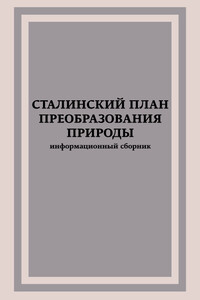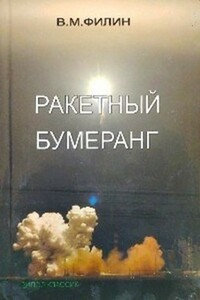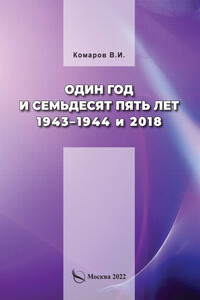Почему мы все так музыкальны? | страница 5
Сегодня появились новые возможности, и мы за короткое время прослушиваем музыки больше, чем Бах, Моцарт или Бетховен за всю жизнь. Нам доступны произведения, созданные на протяжении пяти веков во всех частях света. В памяти моего компьютера хранится 21 тысяча записей, которые я могу послушать, просто щелкнув «мышкой». Существует целая индустрия, цель которой — не дать нам ни минуты прожить без звукового сопровождения, а юристы тщательно следят, чтобы никто не спел «Happy Birthday», не оплатив авторских прав. К счастью, это пока распространяется только на публичное исполнение…
Столь всеобъемлющее общение с музыкой не проходит бесследно для нашего мозга. Ведь самое обычное прослушивание — отнюдь не пассивный процесс: в мозгу формируется представление о том, как должна звучать музыка, и рождается ожидание новых, еще не известных созвучий.
Подобное происходит с ребенком, когда он учится говорить: малыш определяет в качестве правильных те звуковые комбинации и словосочетания, которые слышит чаще всего, — и они формируют его родной язык. Расширение словарного запаса и обучение грамматике происходит на основе того, что постоянно «на слуху». Точно так же мы усваиваем музыкальные правила.
Научные исследования позволяют сделать вывод: подобно тому, как в детском возрасте человечек начинает испытывать потребность учить язык, у него возникает желание слушать музыку. И это не просто хобби, как вязание или коллекционирование почтовых марок. Исторической науке пока неизвестна культура, в которой отсутствовало бы музыкальное искусство. Почему? Возможно, потому, что музыка играет положительную роль в процессе эволюции и даже дает преимущества в борьбе за выживание.
В этой книге приведены ответы, которые наука дает на подобные вопросы. Они вызывают протест у многих людей, прежде всего, у профессиональных музыкантов. Музыка для них глубоко иррациональна, и они убеждены, что ее сущность невозможно познать при помощи объективных научных методов. Исследователь музыки Дэниел Левитин, разрабатывающий в лаборатории университета Макгилла в Монреале естественно-научные темы, пишет: «Возможно, мы столкнулись с великой тайной, разгадать которую полностью не удастся никогда, — тайны творения чего-то живого, прекрасного, могущественного, понятного, но неуловимого». Он ссылается на религиозного философа Алана Ваттса, который говорил об ограниченности научного метода и сравнивал его с естествоиспытателем, который изучает особенности реки, черпая из нее воду ведром. «Но разве ведро с водой — это река?» — вопрошал Ватте.